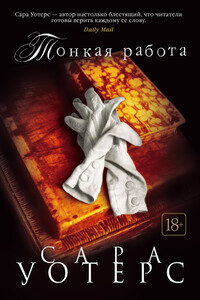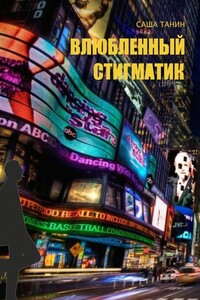и Бартоке
[97] на Босфоре, от Абдул-Азиза
[98] до Ататюрка,
[99] — этот проект принес мне грант одного весьма солидного фонда, чем я ужасно гордился; в основе его лежала статья о брате Гаэтано Доницетти — Джузеппе
[100], приобщившем к европейской музыке турецкую правящую элиту; интересно, чего стоит этот текст сегодня, — наверняка немногого, за исключением биографии этого странного, ныне почти забытого композитора, который прожил сорок лет в тени султанского трона и был погребен в соборе на Бейоглу под звуки военных маршей, сочиненных им для Османской империи. (Сара сказала бы: решительно, военная музыка — главный предмет обмена между Востоком и Западом; трудно поверить, что эта музыка, такая моцартовская, снова нашла, в каком-то смысле, свои корни в османской столице, пятьдесят лет спустя после создания «Турецкого марша»; если вдуматься, становится вполне понятно, отчего турок так очаровало это преобразование их собственных ритмов и звучаний, ибо — пользуясь словарем Сары — в каждом явлении есть что-то от другого
[101]).
Нет, нужно свести свои мысли к молчанию, вместе того чтобы предаваться воспоминаниям и печали этого коротенького вальса; не прибегнуть ли к одной из техник медитации, с которой знакома Сара и которую она мне разъясняла здесь, в Вене, слегка при этом посмеиваясь: попробуй-ка глубоко дышать, отгони все мысли в бескрайний белоснежный простор, сомкни веки, сложи руки на животе и изображай смерть, пока она не пришла.
Сара у себя в номере, в Сараваке, полуобнаженная, на ней только майка-безрукавка да хлопчатобумажные шорты; легкая испарина увлажнила спину между лопатками и подколенные ямки, скомканная простыня отброшена к ногам. Несколько насекомых, почуявших биение крови спящей, еще цепляются за москитную сетку, хотя солнечные лучи уже пробились в комнату сквозь древесную листву. The long house[102] просыпается, вот и женщины вышли за порог, на деревянную веранду, и начали готовить еду; Сара смутно слышит постукивание мисок, глухое, как звуки семантры[103], и непривычные интонации говорящих.
В Малайзии рассветает на семь часов раньше, чем у нас.
Сколько же я продержался — неужели почти десять минут, — ни о чем не думая?
Сара в джунглях Бруков[104] — белых раджей Саравака, династии британцев, что захотели стать повелителями Востока и стали ими, правя страной почти целый век, среди пиратов и головорезов.
С тех прошло время, много времени.
Позади — замок в Хайнфельде, венские прогулки, Стамбул, Дамаск, Тегеран, и вот теперь мы лежим, каждый на своем месте, на разных концах планеты. У меня слишком сильно бьется сердце, я это чувствую, да и дыхание участилось, — повышенная температура может вызывать легкую тахикардию, сказал мне врач. Нужно встать с постели. Или же взять какую-нибудь книгу. Забыть. Не думать об этих проклятых анализах, о болезни, об одиночестве.
Вообще-то, я могу написать ей письмо, вот что меня развлекло бы: «Дражайшая Сара, спасибо тебе за статью, хотя, признаюсь, ее содержание меня встревожило, — ты в порядке? И что ты делаешь в Сараваке?» Нет, слишком безразлично. «Дорогая Сара, должен тебе сообщить, что я умираю». Нет, слишком преждевременно. «Дорогая Сара, мне тебя не хватает». Слишком откровенно. «Дражайшая Сара, разве былые горести не могут когда-нибудь обернуться новыми радостями?» Красиво звучит — «былые горести». Не случалось ли мне заимствовать подобные перлы у поэтов для своих писем из Стамбула? Надеюсь, она их не сохранила — этот памятник напыщенной глупости.
Жизнь подобна симфонии Малера: она никогда не возвращается вспять, никогда не начинается сначала. От этого ощущения времени, окрашенного меланхолической покорностью, сознанием конечности жизни, нет лекарства, кроме разве опиума и забвения; диссертацию Сары можно рассматривать (мне только сейчас пришло это в голову) как каталог меланхолий, самый странный из каталогов, список людей — жертв меланхолии, разного склада ума, разных национальностей, — Садега Хедаята, Аннемари Шварценбах[105], Фернандо Пессоа[106]; называю самых ее любимых, хотя им-то она посвятила в своем исследовании меньше всего страниц, скованная ограничениями Науки и Университета, бдительно следивших за «чистотой» ее текста — «Образы