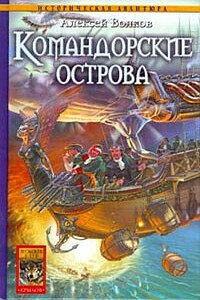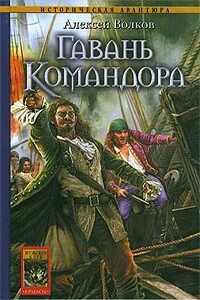И снова потянулись дни, нудные и, несмотря на палящее солнце, беспросветные. Тело постоянно ныло от боли, одолевала нарастающая слабость, донимала жара, и лишь бич надсмотрщика не давал мне упасть где-нибудь в тени и лежать там без всяких мыслей. Нашим черномазым собратьям было намного легче, они хоть к солнцу привычные, а мы…
Я поймал себя на том, что меня все чаще охватывает какое-то отупение. Ни мыслей, ни чувств. Даже желания куда-то пропали. Кабанов, Валера, Ленка почти ушли из моей жизни и памяти, я больше не тосковал и не думал о них. Я вообще временами переставал думать, а более или менее энергично шевелиться начинал, лишь когда мимо проходил надсмотрщик с бичом. Боли я боялся по-прежнему.
И в тот день, в очередной раз заметив приближение властителя наших израненных спин, я изо всех сил начал делать вид, будто старательно работаю. Беда заключалась в том, что сил почти не было. Я на секунду оглянулся посмотреть, долго ли еще горбатиться? Тут-то все и произошло.
Надсмотрщик как раз миновал Вовчика, и тут последний прыгнул, обхватил мучителя левой согнутой рукой за шею, а правой с зажатым в ней предметом принялся неумело колотить его по груди и животу. Надсмотрщик вскрикнул, попытался вырваться, но после нового удара в живот согнулся. Тогда Вовчик перехватил нож обеими руками и со всей силы вонзил его сверху и сзади в шею.
Работа мгновенно прекратилась. Все стояли и смотрели, что будет дальше. Один Рдецкий медленно и молча направился к Вовчику. Тот выхватил из-за пояса у убитого длинноствольный пистолет, и тут мы увидели бегущего сюда второго надсмотрщика. Очевидно, он услышал крик своего товарища и теперь мчался на помощь.
Надо отдать Вовчику должное. Он не растерялся, не пустился бежать, а вскинул пистолет навстречу бегущему. Надсмотрщик не смог бы резко увернуться на бегу, и, выстрели Вовчик, судьба его была бы решена, но тут неожиданно вмешался Гриф.
Стоя метрах в четырех позади Вовчика, он вдруг взмахнул рукой и метнул нож в спину своего долговязого компаньона. Бросок оказался удачен. Нож вошел почти по самую рукоять, Вовчик дернулся, но упал не сразу. Застыл надсмотрщик, застыл и Гриф, и эта немая сцена растянулась на несколько долгих мгновений – как фотография, нет, скорее, как застывший на одном кадре фильм, и это почему-то было мучительно и страшно.
А потом все сдвинулось. Вовчик обернулся, увидел своего убийцу, и невероятное удивление, смешанное с яростью, исказило его и без того некрасивое лицо. Он повернулся и с видимым усилием попытался поднять успевшую опуститься руку с пистолетом, но жизнь уже оставляла его, и он мешком повалился на землю, чуть приподнялся и беззвучно выдохнул:
– Сволочь!
И тут же наступила агония. Вовчик несколько раз дернулся, засучил ногами и затих окончательно.
Надсмотрщики (их прибежало еще двое) осмотрели убитых, подобрали оружие, о чем-то коротко переговорили с Рдецким и несколькими ударами бичей вернули нас к работе. Потом приказали неграм унести трупы и удалились, прихватив с собой Рдецкого.
А вечером мы узнали, что Рдецкий назначен новым надсмотрщиком взамен убитого.
И уже на следующее утро Гриф ретиво взялся за дело. По малейшему поводу и без повода он хлестал всех направо-налево, не делая для своих бывших современников никакого исключения. Напротив, нам доставалось больше всех. Гриф как бы подчеркивал, что между нами отныне пролегла пропасть. Впрочем, после вчерашнего точно так же думали и мы.
Ночью, лежа на животах в душном запертом бараке, мы шепотом обсуждали случившееся. Я не выдержал, рассказал о разговорах с Грифом, и все сошлись в одном: он и не думал бежать. Рдецкий оценил вероятность побега и дальнейшие трудности и вместо этого решил выслужиться перед хозяином. То, что для достижения цели придется лишить кого-то жизни, не имело для него значения. Суда Гриф не боялся – по здешним законам он поступил правильно. Никто ведь не слышал, о чем он шептался с Вовчиком, и доказать что-либо было невозможно.
Но Гриф, очевидно, подсознательно ждал от нас каких-то каверз и при малейшей возможности избивал нашу пятерку (Ардылов был ему недоступен). При этом говорил он исключительно на ломаном английском, и единственными русскими словами, порою слетавшими с его губ, были матерные.