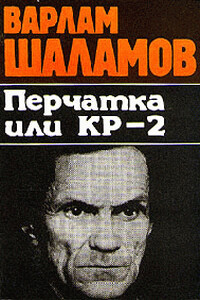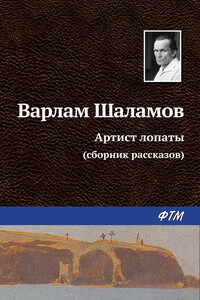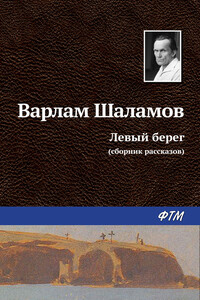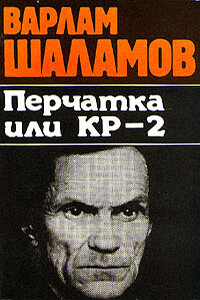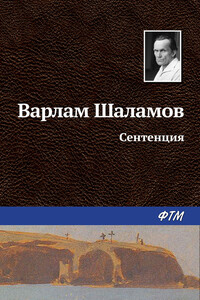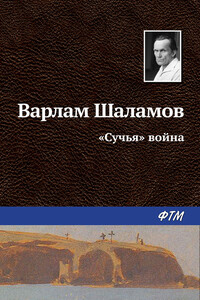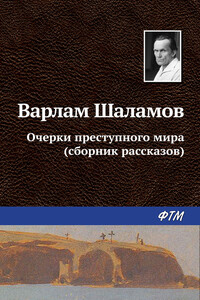— Фамилия? — спросил Смертин, вглядываясь в бумаги. — Имя? Отчество? Статья? Срок?
Я ответил.
— Юрист?
— Юрист.
Бледное лицо поднялось от стола.
— Жалобы писал?
— Писал.
Смертин засопел:
— За хлеб?
— И за хлеб, и просто так.
— Хорошо. Ведите его.
Я не сделал ни одной попытки что-нибудь выяснить, спросить. Зачем? Ведь я не на холоде, не в ночном золотом забое. Пусть выясняют, что хотят.
Пришел помощник дежурного с какой-то запиской, и меня повели по ночному поселку на самый край, где под защитой четырех караульных вышек за тройной загородкой из колючей проволоки помещался изолятор, лагерная тюрьма.
В тюрьме были камеры большие, а были и одиночки. В одну из таких одиночек и втолкнули меня. Я рассказал о себе, не ожидая ответа от соседей, не спрашивая их ни о чем. Так положено, чтобы не думали, что я подсажен.
Настало утро, очередное колымское зимнее утро, без света, без солнца, сначала неотличимое от ночи. Ударили в рельс, принесли ведро дымящегося кипятка. За мной пришел конвой, и я попрощался с товарищами. Я не знал о них ничего.
Меня привели к тому же самому дому. Дом мне показался меньше, чем ночью. Пред светлые очи Смертина я уже не был допущен.
Дежурный велел мне сидеть и ждать, и я сидел и ждал до тех пор, пока не услышал знакомый голос:
— Вот и хорошо! Вот и отлично! Сейчас вы поедете! — На чужой территории Романов называл меня на «вы».
Мысли лениво передвигались в мозгу — почти физически ощутимо. Надо было думать о чем-то новом, к чему я не привык, не знаю. Это новое — не приисковое. Если бы мы возвращались на свой прииск «Партизан», то Романов сказал бы: «Сейчас мы поедем». Значит, меня везут в другое место. Да пропади все пропадом!
По лестнице почти вприпрыжку спустился Романов. Казалось, вот-вот он сядет на перила и съедет вниз, как мальчишка. В руках он держал почти целую буханку хлеба.
— Вот, это вам на дорогу. И еще вот. — Он исчез наверху и вернулся с двумя селедками. — Порядок, да? Все, кажется… Да, самое-то главное и забыл, что значит некурящий человек.
Романов поднялся наверх и появился снова с газетой. На газете была насыпана махорка. «Коробочки три, наверное», — опытным глазом определил я. В пачке-восьмушке восемь спичечных коробок махорки. Это лагерная мера объема.
— Это вам на дорогу. Сухой паек, так сказать. Я кивнул.
— А конвой уже вызвали?
— Вызвали, — сказал дежурный.
— Наверх пришлите старшего.
И Романов исчез на лестнице.
Пришли два конвоира — один постарше, рябой, в папахе кавказского образца, другой молодой, лет двадцати, розовощекий, в красноармейском шлеме.
— Вот этот, — сказал дежурный, показывая на меня. Оба — молодой и рябой — оглядели меня очень внимательно с ног до головы.
— А где начальник? — спросил рябой.
— Вверху. И пакет там.
Рябой пошел наверх и скоро вернулся с Романовым.
Они говорили негромко, и рябой показывал на меня.
— Хорошо, — сказал наконец Романов, — мы дадим записку.
Мы вышли на улицу. Около крыльца, там же, где ночью стоял грузовичок с «Партизана», стоял комфортабельный «ворон» — тюремный автобус с решетчатыми окнами. Я сел внутрь. Решетчатые двери закрылись, конвоиры уселись в тамбуре, и машина двинулась. Некоторое время «ворон» шел по трассе, по центральному шоссе, что разрезает пополам всю Колыму, но потом свернул куда-то в сторону. Дорога вилась между сопок, мотор все время храпел на подъемах; отвесные скалы с редким лиственным лесом и заиндевевшие ветки ивняка. Наконец, сделав несколько поворотов вокруг сопок, машина, идущая по руслу ручья, вышла на небольшую площадку. Здесь была просека, караульные вышки, а в глубине, метрах в трехстах, — косые вышки и темная масса бараков, окруженных колючей проволокой.
Дверь маленькой будочки-домика на дороге отворилась, и вышел дежурный, опоясанный револьвером. Машина остановилась, не глуша мотора.
Шофер выскочил из кабины и прошел мимо моего окна.
— Вишь, как кружило. Истинно «Серпантинная».
Это название было мне знакомо, говорило мне больше, чем угрожающая фамилия Смертина. Это была «Серпантинная» — знаменитая следственная тюрьма Колымы, где столько людей погибло в прошлом году. Трупы их не успели еще разложиться. Впрочем, их трупы будут нетленны всегда — мертвецы вечной мерзлоты.