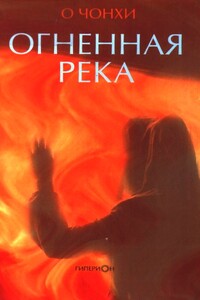В день ее похорон шел такой сильный дождь, что простой деревянный гроб плавал в могиле, пока на него не насыпали достаточно мокрой земли, чтобы придавить ко дну. Молодой священник наскоро прочитал молитвы и уже повернулся, чтобы уйти, но тут Николай затянул Agnus Dei[67].
В первый раз за много лет я снова услышал его пение. Его раскатистый голос перекрыл шорох дождя. Я склонил голову, капли стали падать мне на шею и стекать ледяными ручьями по спине. Дождь смешался с моими слезами. Ноги Тассо и Ремуса медленно засасывало в грязь, но они не вытаскивали их до тех пор, пока Николай не закончил молитвы.
От холодного дождя, смешанного с горем, я занемог. У меня случилась лихорадка, и десять дней я лежал на смертном ложе Амалии. Ремус без устали чистил ее комнату от крови. Он скреб пол, стены и ножки кровати, но она оставалась в щелях между половицами и вторгалась в мои сны. Так же остервенело, как Ульрих, Ремус скреб снова и снова, но я все равно слышал ее дыхание. Я слышал, как она шепчет слова любви. Когда они попытались перенести меня в комнату Николая, я закричал.
Они привели ко мне доктора. Он пустил мне кровь и дал горькие травы, но лучше мне не стало. Мои друзья стали думать, что и меня им придется похоронить. Но через несколько недель лихорадка исчезла, и комната больше не пахла кровью. Звуки моей возлюбленной хранились в глубинах моей памяти, как в серебряном медальоне хранился ее портрет.
Однажды ночью я был разбужен криками младенца.
Я подскочил на кровати, бросился в гостиную, пробежал мимо спящего Ремуса и спустился вниз по лестнице. Босой и едва одетый, я оказался на ледяной улице — и только потом пришел в себя. Плач доносился из стоявшего в отдалении дома. Я увидел освещенное окно и мать, ходившую по комнате со свертком у плеча. Пульсирующая боль в замерзших ногах была ничем по сравнению с болью в моем сердце.
Долгими вечерами мы безмолвно сидели в гостиной.
Мороз пробирался сквозь прогнившие рамы, за окном чернела ночь. Ремус даже перестал читать книги.
— Мы должны выкрасть его! — однажды ночью яростно воскликнул Николай. А когда я и Ремус не ответили, он продолжил, но уже тише: — Мы бы так любили его.
— Тише, Николай, — сказал Ремус. И посмотрел на меня, как будто боялся, что подобный разговор снова может вызвать у меня лихорадку.
— Не буду я молчать! Я не буду молчать до тех пор, пока мы не сделаем то, что должны сделать! Я целую армию соберу. Эти люди с улицы нам помогут. Сотня человек — нам больше не нужно.
— Николай!
— Ремус! — закричал он в ответ. — Разве у тебя не осталось храбрости?
— Прекрати, пожалуйста, — попросил я своего друга. — Я очень признателен тебе за твое мужество, Николай, но все это без толку. Ты знаешь, что я думаю о том же. Но этот дом — настоящая крепость. Императорские солдаты придут им на помощь. Это слишком большой риск и для нас, и для ребенка.
— Но мы должны попытаться, — настаивал он.
— Нет, — твердо сказал я. — Мы должны молиться, чтобы он был доволен судьбой, которую Господь избрал для него. Или же мы должны забыть его.
Николай засопел, как разъяренный медведь, но ничего не ответил.
— Поклянись мне, что ты больше никогда не заговоришь об этом, — произнес я.
Его глаза наполнились слезами. Губы задрожали.
И он поклялся.
Я и мои друзья брели, спотыкаясь, по жизни, как жалкие актеры без пьесы. Потом нас навестили двое. Мужчины, каждый размером с Николая, вскарабкались по лестнице и протиснулись в гостиную. Я не вставал с кровати, но мне было слышно все, что они говорили. Они сказали Ремусу, что посланы своим хозяином к «швейцарскому кастрату», чтобы напомнить ему об обещании покинуть Вену. Я услышал, как скрипнуло под Николаем кресло, когда он поднялся, и как стремительно прошелестели шаги Ремуса, когда он бросился к гиганту. Старый волк сказал, что передаст послание. «У него есть время до Нового года, — предупредил один из них. — И вам придется уехать вместе с ним». После того как они ушли, Ремус пришел ко мне в комнату и повторил послание Гуаданьи.
— Наверное, нам пора уезжать, — проронил он. — Пришло время начать все с начала.