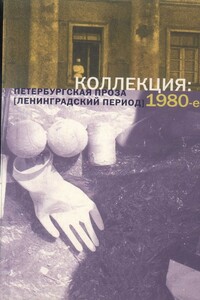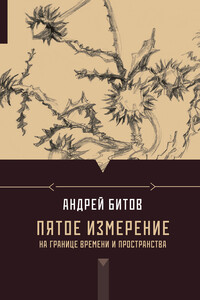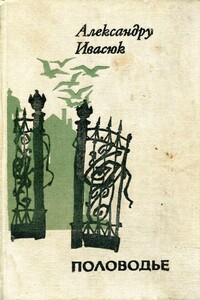В мою пользу будет сказано, что, подобно тому, как в детстве я быстро научился вкладывать палец в нос, я так же быстро научился вкладывать «свою плоть в ее плоть», чем исторгал восторженный возглас моей соблазнительницы, отчего сам приходил в веселье и отчего пылкость моих прикосновений во много раз возрастала.
Я уезжал, чтобы поступать в военное училище, в то училище, которое выбрал мой папа, сначала гвардейский капитан, а потом полковник.
— Ты того, — говорил он на прощанье, — главное, не дрейфь! Помни, что твой отец — полковник. Как приедешь, так прямо и скажи. А то они — того, забыли.
И, закончив свою речь обычным «Эх, воспитатели!», мой папа крепко расцеловал меня.
Надо было видеть нас троих на станционном перроне, где, кроме нас и двух деревянных скамеек, никого в этот утренний час не было, надо было видеть высокого полковника и такого же высокого молодого человека со стоявшей рядом, почти вполовину ниже, женщиной, полнота которой так не примечательна для России.
Еще надо было видеть слезы, которые размазывал по лицу полковник, когда курьерский поезд с грохотом подкатил к нашему вокзалу, этому невзрачному желтому домику, утонувшему в каких-то зеленых липах и тополях, что заставило меня вскочить на подножку вагона, предварительно забросив вещи в тамбур и вызвав тем самым недовольный крик проводника, ибо я ему отдавил ногу чемоданом, в котором лежали ватрушки, испеченные женой майора Буюмбаева, с которой я провел сладкие минуты моего мужания.
— Эх ты, растяпа, — грозно проворчал проводник. И в тот же миг стоявший всего две минуты на нашей станции поезд тронулся.
Я оглянулся назад, и вдруг резкая скорбь наполнила мою душу, так что слезы сами собой потекли на мою белую, еще не испачканную новой жизнью рубашку.
Я увидел, как, обнявшись и словно забыв обо мне, рыдали мой отец и моя матушка, причем голова моей родительницы покоилась на груди моего отца, который крепко обнимал ее, а полные их тела содрогались, будто это было их предсмертное содрогание.
Первым моим желанием было соскочить с подножки, чтобы успокоить их, и я уже готов был спустить с подножки ногу, но, подняв свой затуманенный прощанием взгляд, увидел весь в зелени поселок, окруженный утренними холмами, увидел летнее, жаркое, голубое и постоянное небо, то небо, которое не раз наполняло меня тоской и скукой, словно говоря — нет, ты никуда не денешься от меня, от моего жаркого взгляда, пока ты жив, пока ты не сошел в могилу; увидел блестевшие на солнце веранды и кое-где дымки над крышами домов, и, пока я вглядывался во все это, поезд набрал скорость, и прыгать стало бессмысленно, а когда платформа с моим отцом и матушкой исчезла, я с облегчением вздохнул и поднялся в тамбур, где вповалку лежали мои вещи, над которыми витала память об отдавленной ноге проводника.
1973
Василий Аксенов
Костя, это — мы?
Первый сентябрьский закат был омрачен, для многих неожиданно, появлением на западе — сторона, которую яланцы именуют гнилым концом, — зловещих туч. Ночью плохо — к перемене погоды — спавшие яланцы ждали грозы. Грозы, однако, не случилось, но под утро закапал тихо дождик, мелкий и нудный, всем своим видом сразу и пообещавший, что скоро перестать не собирается он. Ну и действительно — почти на месяц зарядил. Выпадали, правда, редкие дни, когда сплошная серая пелена разрывалась и обнажала клочьями синий небесный купол, заметив который радостно думалось, что наконец-то, мол, и бабье лето с его известными всем прелестями. Не тут-то было. Пелена смыкалась, и ненастье продолжалось.
Ялань тонула в грязи. Подавленные, опечаленные непогодой яланцы, вместо того чтобы ходить за клюквой и брусникой в бор или в болото или сжигать в огородах ботву, большую часть времени просиживали сложа руки дома. Пятачок пустовал. Оставленные на Пятачке чурки и лавочки насквозь промокли и никогда уже, казалось, не просохнут. Мужики собирались нечасто, а если и собирались, то не на Пятачке, а в конюховке, на черных, небеленых стенах которой во время таких посиделок от табачного дыма выступала смола.
На улицах Ялани случайно проезжающий путник в эти дни мог увидеть табун скучных, мокрогривых лошадей, вызывающих лишь сочувствие своей неприкаянностью; собак, у которых в разгаре был свадебный сезон, отчего на прихоти погоды ими особо не взиралось; да бригадира, съежившись, утянув голову в плечи и прикрыв глаза козырьком кепки, а ориентируясь при помощи носа, который яланцы называют виноискателем, уныло шагающего ранним утром на конюховку, а в разное время вечера в сопровождении искавшего, искавшего и отыскавшего его пса Гитлера или бича Аркашки, если, конечно, тот был еще в состоянии держать в руках ослабленных фонарь, а в редких случаях и самостоятельно — с конюховки. Вот этим только и могли порадовать, пожалуй, случайного проезжего в такие дни яланские улицы. А чем другим, так это вряд ли.