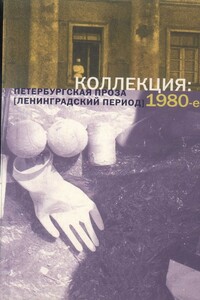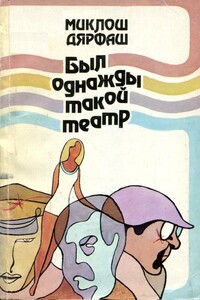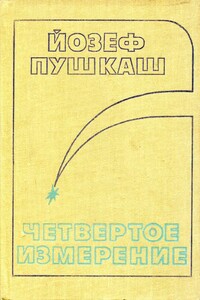Курил и медленно шел за ней. «Только б прекратилась эта идиотская музыка! Совсем она смущена». Ждал.
Вот сейчас обернется, вот сейчас…
Подождал и весело позвал:
— Галчонок!
Она повернулась.
Не выносил красивых имен и еще ни разу не назвал ее по имени. Все называл своими именами. Вот как сейчас — Галчонок.
Он шел, она улыбалась, ждала.
Месяц назад, в первую их встречу, он шутя назвал ее большеротым галчонком. Наклонился к ней (она сидела в кресле, курила и смеялась) и сказал:
— А знаешь, ты совсем большеротый галчонок!
Он медленно шел, она улыбалась, ждала.
Тогда она не обиделась, а широко улыбнулась, потому что и в компании было весело, и он как-то хорошо это сказал, словно позвал ее, вот как сейчас.
Она смотрела.
И опять он курит… Худой, одетый небрежно. В расстегнутом плаще. Серые волосы, лишенные блеска, еще тогда, в первую встречу, показались ей мертвыми. И лицо болезненное, с синевой под глазами и на висках, и даже у носа, на переносице, — голубизна. Она еще тогда подумала, что с закрытыми глазами его лицо, наверное, напоминает лицо мертвого. Но глаза! Глаза удивительно живые! И, кажется, никогда не закрываются.
Остроносый, гладко выбритый, в поношенном плаще, он шел и декламировал Рильке. И она подумала, что ему пошел бы парик, но не разлапистый парик Людовика XIV с буклями по плечам, а скромный — Ломоносова, Дидро или… Моцарта. Да, именно Моцарта. И сразу представила его на дорожке с тростью.
Небрежно одетый ею в костюм XVIII века, он шел и курил «Шипку».
— Слушай, — сказала она, когда он подошел и стряхнул ей под ноги пепел, — я не знаю, как мне принимать твой эпитет «большеротый». С Галчонком я примирилась, но с этим… — Она взяла его под руку. Красивый рот ее улыбался. — Ты все-таки меня оскорбляешь.
— А разве я виноват? Именно такой ты мне нравишься, — сказал он беспечно и наклонился к ее уху. — Знаешь, какая ты еще? Ты у-ди-ви-тель-ная! (Он очень любил это слово.)
— А тебе не кажется, что ты односторонен?
— Ничуть!
— Странно. Неужели, кроме улыбки, во мне нет никаких достоинств. Это меня обижает. Признайся, ты все время хочешь меня унизить.
— Ничуть! — беспечно сказал он и, загибая пальцы, перечислил пять ее великолепнейших достоинств.
Когда он загнул все пять пальцев и на левой руке, он сказал:
— Теперь дай твою, а то мне придется снимать ботинок.
Она смеялась. И он был доволен, что у нее столько достоинств и что спазмы в желудке прекратились.
— Видишь, сколько их. Я могу насчитать еще сотню. А ты говоришь — я хочу тебя унизить. Смешная! Галчонок в одеяле!
Он нравился ей вот таким, которому все трын-трава, даже собственное урчанье в животе. Серьезным она его побаивалась — он становился язвительным.
— А знаешь, — вдруг сказал он, — в тот раз, как только я увидел твою улыбку, меня так и подмывало отвесить тебе комплимент.
— Какой? — И заранее краснела, слыша в его голосе насмешливые нотки.
— Так, подойти к тебе, взять за руку и шепнуть. — Он взял ее руку и шепнул: — Ах, дорогая, какие у вас маленькие ручки. Вам, наверное, приходится закрывать двумя руками рот, когда вы зеваете! — И засмеялся, довольный, ему нравилось ее смущение.
— Напрасно ты этого не сделал. Я бы сразу узнала, как краснеет твоя левая щека. — «Ты сегодня другой», — подумала она и сказала: — С тобой сегодня легко, но все равно все время ждешь этих насмешливых шпилек. Ты можешь очень больно уколоть…
— Это интересно, — усмехнулся он. — Твое сердце, что — подушечка для булавок?
Она отворачивалась от его насмешливого взгляда.
— И все время меня не покидает мысль: в тебе зарыта какая-то злая собака. Знаю, ты выше меня, умней, и рядом с тобой я, наверное, кажусь просто девочкой…
— Милой и завернутой в одеяло, — уточнил он. Он все обыгрывал — так было легче.
— Но если бы тебя только боялись — тогда все ясно, но ведь тебя уважают!
— Значит, зарыта и добрая собака! А?
Он поймал ее взгляд.
— Но что-то есть в тебе такое… Вот даже сегодня — ты позвонил, я согласилась. Повесила трубку, думаю: «Хорошо, поеду!» Но вышла из автобуса, увидела тебя у памятника и защемило, потому что сразу увидела этакую спокойную уверенность в собственном превосходстве. Ты опасный! И не потому, что можешь в любую минуту сказать что-то, чего я не пойму, и мне будет стыдно, — это все ерунда, другое — вот даже сейчас — ты шел, дурачился, а я знала, что где-то ты другой — суровый, зоркий и все время следишь.