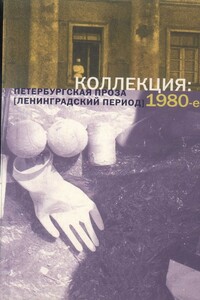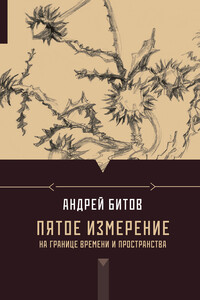А ночь между тем брала свое. Воцарившись над городом, она мерно и властно диктовала свои ночные законы населению, словно древняя царица, которой лучше, чем кому бы то ни было, известно, что такое «Разделяй и властвуй». Грубо говоря, население распалось на две половины: на половину спящую и на тех жителей, которые для себя решили, что им лучше пока не спать. Спящие по внешнему признаку разделились на две рознящиеся между собой части: на спящих в объятиях лиц противоположного пола и на спящих в одиночестве. По внутренней характеристике спящие жители могли быть разделены также на две группы: на участвующих в сновидениях и на участие в них не принимающих. Принимающие участие, при желании, могли бы быть еще разделены на подгруппы, а именно: на тех, которые видят в факте сновидения некую небывалую комбинацию бывалых впечатлений и в силу этого усматривают во сне игру усталого ума, и на тех, которые бы хотели найти в этом деле некий тайный смысл, чуть ли не эманацию Божественного откровения. При дальнейшем рассмотрении спящих с этой точки зрения легко можно было бы отличить еще многочисленную группу граждан, чурающихся какого бы то ни было отношения к природе собственных сновидений, вследствие чего установить их позицию по этому вопросу не представляется возможным. С полным основанием можно было бы этих граждан отнести в какую-нибудь особую подгруппу или даже класс, но обратимся лучше к горожанам бодрствующим, или неспящим.
Очевидно, что таковые самораспадаются на два больших лагеря: неспящие по нужде (включая работающих) и неспящие добровольно. Как тех, так и других, несмотря на явное различие в их положении, роднит одно: все они в той или иной степени подчиняются тем таинственным законам ночной действительности, которые… (едва не сказал «согласуются») никак не согласуются с нормами повседневной дневной жизни.
Взять хотя бы время. Вспомним, как течет время ночью. Сколь мало в нем от полуденного размеренного шага! Оно то крадется зачуявшей падаль гиеной, нервно вскидывая хвостом, то летит подобно американскому локомотиву «Супер Ральф», скоростные характеристики которого хорошо известны, то замирает вроде скорбной скульптуры Скварелли с заломленными руками (о, ночные часы в больнице!), короче говоря, тут затруднительно подобрать метафоры для обрисовки удивительных метаморфоз, претерпеваемых временным потоком в ночной период.
Один мой приятель сказал по этому поводу, что ночью время идет как бы даже вспять, но, хотя это и явное преувеличение (допущенное, впрочем, в полемическом задоре), в каждой шутке есть доля шутки, как любил говаривать тот же приятель, и с этим трудно не согласиться.
Но бог с ним, со временем, — что творится с человеком, стоит лишь солнцу скрыться за горизонтом! Прижав к затылку распухшие от лжи уши, сладострастно втягивает он нервными ноздрями ночной воздух, без видимой цели гася и вновь зажигая потухшую во рту сигарету, словно ее маленький фонарик может помочь ему в океане ночного безумия найти единственно правильное решение. И, одинокий на путях своих, подгоняемый воспаленной кровью, тычется и бьется, бьется и тычется в ночи слабый человек, туша и опять зажигая у себя во рту маленький красный фонарик.
Также гасла и вновь вспыхивала измочаленная сигаретка в уголку рта Олафа Ильича, когда они с Олей приближались к ее дому. Сняв с девочки накинутый от холода пиджак, Навернов положил ей руки на плечи и сказал (всю дорогу они не говорили):
— Ты должна мне обещать, что никому не расскажешь о том, что видела у меня сегодня.
— Да, — сказала Оля.
— Ты обещаешь мне?
— Да, — повторила Оля, глядя ему в глаза.
— Ну, теперь иди.
Оля повернулась и пошла, но у парадной остановилась и спросила:
— Олаф Ильич, вы сделаете из него чучело?
Навернов не ответил, потому что в этот самый момент с отчетливейшей ясностью вспомнил вдруг сон, который приснился ему на тахте час назад.
Он был маленьким мальчиком и играл с какими-то незнакомыми детьми в странную игру, правила которой не совсем понял, и оттого ему было немного не по себе. Игра происходила на удивительной красоты лугу, поросшем неизвестными Олафу дикими цветами. С трех сторон луг окружали скалы, а что было с четвертой — не понять из-за стлавшегося там густого тумана. Детей было человек пятнадцать или шестнадцать, мальчиков, кажется, больше. Водящему завязывали глаза, и он бегал, растопырив руки, стараясь поймать кого-нибудь, и когда ловил, то выкрикивал коротенький стишок, и все смотрели наверх, на скалу, где стоял узкоглазый мужчина в черном костюме и галстуке с толстой бамбуковой палкой в руке. Если он поднимал палку вверх, то повязку с водящего снимали и надевали на пойманного, а если палка шла вниз, то водящему приходилось ловить еще раз. Олафа поймала курносая девочка с огромным розовым бантом на макушке и звонко крикнула: