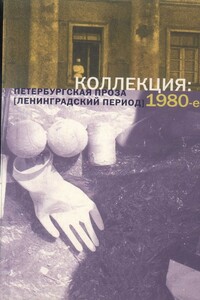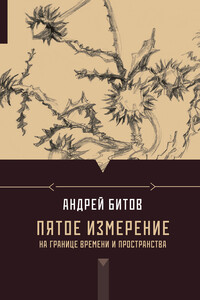Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е - страница 114
— Но не грехом ли познающего будет такое упорядочение? Благонамеренным искажением в угоду архитектоничности его разума?
— А разве познаваемое не сделано им же? Разве вы не видите, не слышите, что иные моменты истории породила та же тоска по форме, которой мы обязаны увертюрой к «Дон Жуану»?
— Магистр… но где же тогда Бог?
Он улыбнулся отечески.
— Мои ученые собратья исходили потом в попытках уличить меня в ереси. Вы назвали имя. Ищите его носителя в проявлении, распознавайте форму, умейте уловить минуты Великого Устроения…
— Но как трудно поверить, что повседневные дела Гаммельна, склоки и столкновения, позорящие магистрат, — не хаос, не беспорядочное копошенье без цели и смысла…
— Потому что этих дел еще касалась преобразующая рука устроителя. Дела Цезаря пребывали в единстве с его намерениями.
— Добрые намерения! — вскричал я, увлеченный. — От века неизменные, они же и наши: благо и согласие граждан да еще, быть может, снисходительное слово потомства…
— Дорогой и превознесенный друг, разве Цезарь был святым?
Я смутился.
— Желая блага, прибегают к молитве; Галлию завоевывают. Цезарь располагал легионами для похода, проконсулами для управления, юристы писали законы, ликторы наказывали, и, наконец, сенат и римский народ одобряли все вышеперечисленное. Точнейше обозначенные средства определяли соответственные намерения, иных он не имел, и мы зовем его классиком. Так же и вы…
Как было не принять это за насмешку? Но я попытался.
— …вы все, правители, стремитесь к форме в мире бесформенного, создаете островки порядка в океане хаоса. Что бы вы ни делали, устроение — ваш единственный способ, и оно же — единственное возможное для вас намерение. Вспомните: симфония имеет своим предметом свою же конструкцию. Она не оглядывается по сторонам, не возводит очи горе. Она целостна в себе и самоценна.
— И несправедлива, — содрогнулся я невольно.
— Несправедлива?.. — О, эта усмешка! Годы пройдут, но не забыть мне ее! — А зачем? Чтобы разрушать себя же?
И еще продолжался наш разговор, и друг мой вернулся к своей чарующей шутливости. А на прощанье сказал:
— Есть у божественного Шуберта, обычно склонного сладостно затягивать беседу, одна предельно сжатая фраза: начало неоконченной симфонии. Забавно, что словоблуды именуют краткость и точность незавершенностью! Так вот: звук протягивает к звуку тонкие длинные нити — быть может, высоко в небе, но почему бы и не под землею? В этом строении и развитии зоркий глаз может усмотреть чертеж… ну, скажем, готовый проект системы городского водоснабжения.
Жестокая шутка — если лишь шутка. Водопровод и поныне — больное место городского устройства: особенно же пагубно отсутствие канализации.
Да, пора сделать признание — в том моя вина, и отсюда страх мой: Гаммельн стал грязен безмерно и оскорбляет зрение, осязание, обоняние же наипаче. Куда деваются деньги — не пойму, но слыхал не раз от членов магистрата, что городская казна пуста. Говорил мне так и председатель суда, и директор школы, а мингер ван Пельц, наш финансист, всякий раз подтверждал с искренним огорчением.
Сомневаясь в себе, я расспрашивал осторожно, описывая свои намеки и экивоки магистру. Он мягко упрекал меня за робость, напоминал для примера и руководства иные похвальные мои суждения и распоряжения. И коль скоро добрые слова подкрепляемы были добрым вином, я казался сам себе и впрямь не совсем недостойным моего невольного бремени…
Но приходило утро, и был я один, и дымом расплывалось, словно колдовское золото, мое душевное веселье.
Пора в ратушу. Надо идти, скрывая тяжкое похмелье и немалое отвращение: по природе я несообщителен. Нет, по сей день не пойму, как согласился принять, хотя бы на время, утешительный сан; приняв же, был честен и полон рвения. Был ли утешен — про то Бог суди. Правда, Бог — милосерд, и я сам сужу себя сурово.