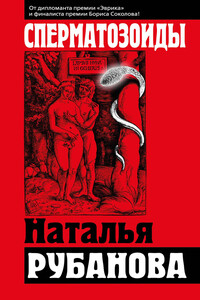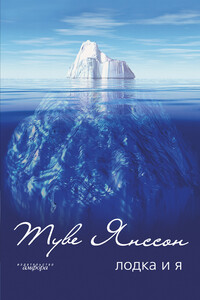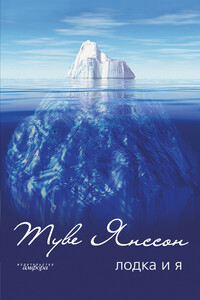— И?.. — пробаритонил он; а баритон — это баритон, не тенор какой-нибудь.
— И… никогда не просыпаться в омерзении от прошлой жизни, — сморозила я.
Он, конечно же, закурил (а я не хочу, чтоб он умер от рака. Не хочу. Это — то самое «и»).
…Мы едем, едем, едем. Машина успокаивает меня. Дорога создает иллюзию движения к цели: у каждого — к своей. Удивительно, как такие разные цели умещаются в одной машине? За окном леса, поля, луга, времена года. Что может быть лучше (хуже) времен года?
…Мы наконец-то приезжаем. Собака с визгом носится по дорожкам сада.
— Ты не оригинален. Опять чья-то недостроенная дача?
— Жена индейца должна смиряться с мелкими тяготами.
Я, хоть и не жена индейца, но смиряюсь.
— Скво! — зовет он.
Я оборачиваюсь и вижу, как «милый», задрав руки за голову, смотрит на начинающий кончать закат. И мы — вот, Мария, негодуй! — стоим, как два кретина, и смотрим на закат, и потом тоже начинаем кончать, и этот тип так красив, что можно одуреть, и я дурею, дурею, пока нас не настигает врасплох чья-то ночь, и мы шмыгаем в чью-то дачу и я, как самая настоящая скво, смиряюсь с мелкими тяготами.
Тело по соседству быстро засыпает; я всегда поражалась этой его — или, скорее, их — удивительной особенности. Хотя, мой бывший любовник говорил, будто после определенного рода занятий бодры лишь женщины и петухи — наукой доказано. Остальным хочется спать. Что за наука?
Я перешагиваю через начинающее храпеть тело и, накидывая только шаль, крадусь воровато в сад. Я не буду про сад — см. лучше «Темные аллеи» Бунина — но было мне там… Я стояла под луной, и даже не хотелось мне выть на эту луну, — я просто отражалась в Том свете. А еще — через минуту — упала.
Местом падения оказалась клумба; на клумбе росла садовая гвоздика, а рядом лежала чья-то шляпа.
И я куда-то забросила шаль. И надела шляпу. И сорвала гвоздику… И я ходила — голая ведьма — под лунным светом и напевала какой-то тарабарский мотивчик. Мне совсем не было страшно, я не боялась даже этих, ужасных ночью, разлапистых яблонь и кустов смородины — я ничего и никого не боялась, даже свою собственную Марию, а главное — босиком, пятками, пальцами — по земле, можно на четвереньках, можно содрать кожу, а луна, @, будет так же…
Не помню, сколько продолжалось все это, пока не ощутила где-то в районе седьмого шейного позвонка легкое прикосновение.
Это было его — и не-его, нео-его, Его-Не-Спящего там, в чужой даче, — прикосновение.
И мы пошли к пруду — ночью, под самыми настоящими звездами, завидуйте, два влюбленных в жизнь моральных урода, два независимых кретина, два оголенных нерва — и мы плавали в этой воде, смывая с себя все то, что можно смыть лишь однажды, потому что знали про грабли; а когда выходили, мокрые и беспорядочные, он сказал что-то мне на ухо — так тихо, что я еле расслышала — не знаю, может, какую-нибудь гадость, но, во всяком случае, он улыбался, я-то знаю, как он может улыбаться; и я почему-то подпрыгнула и почти полетела — наверное, в родне водились ведьмы-то — ведь я была в шляпе и с садовой гвоздикой — и мы оказались счастливы, мой мальчик — как индейцы до испанцев; но больше всего радовало нас наше молчание…
Когда умирает только одна Мария
Времена года сменяют друг друга; я, в отличие от них, с некоторых пор перестаю менять цвета волос. Мой мальчик также играет в индейцев; я же теперь могу не только не мешать ему, но и помогать — да что-то не хочется, не хочется, совсем ничего не хочется. Мой мальчик — где-то, я тоже — где-то, нам достаточно хорошо друг без друга, мы же — выродки, ублюдки, плесень, да на нас пахать надо… Не даемся. Сказки любим.
Так вот к чему весь этот бред: мне последнее время везет на красивых мужиков с красивыми машинами. Повторенье — мать ученья. Не думаю, что они сильно портят картину. Может, даже украшают.
Я веду с ними (не)продолжительные беседы при (не)ясной луне; обычно у нас ничего не происходит — ведь даже красивые мужики с красивыми машинами не застрахованы от моего «Скучно, батенька», — я стараюсь сказать это как можно мягче; говорят, мужская душа, если она вообще есть, совершенная Русалочка по ранимости. Бедные! Но один…