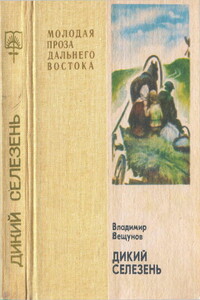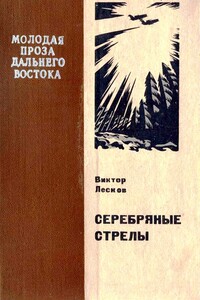— Чего не согласен-то? Этак, что ли? Ну и говорил бы сразу, а то разорался!..
Они часто беседовали и даже спорили.
— Ну, — спрашивал Багин, — как сыновья-то учатся?
— Да ходил… — Федя старательно глядел в пол, морщил крутой лоб.
— Вот балбесы! — возмущался Багин. — Ты их почаще ремнем пугай. Я своего…
В Федином лице что-то едва заметно менялось, он делал слабый жест рукой. Для Багина это было как целая речь.
— Ты говоришь — нет, а я тебе другое скажу: ремень — средство верное. Это в семьях ученых… А нам без ремня никуда.
— Ничего, — выпускал Федя слово.
— А ты не горячись. Подожди, послушай…
Елена рассказывала соседкам:
— Отругал меня сегодня. Спит, а я караулю, чтоб на смену не проспал, и сама задремала…
А вся «ругань» в погукивании да; «Ты это…»
Лет десять назад Феде в шахте переломило рук. Страшно переломило: разорвало мышцы, оголило кость. Багин вел его до подземного медпункта, уговаривал;
— Потерпи, Федя. Сейчас укол — и все… потерпи.
Федя нес здоровой рукой искалеченную, молчал, и лицо его ничего не выражало, только гуще обычного покрылось потом. В медпункте врач «скорой помощи», молодой усатый парень, залил чем-то рану и стал выковыривать из нее осколки угля. Федя глядел, как роется врач в его ране, а тот просил:
— Ты отвернись, чего тут интересного. Больно?
Федя молчал.
И тут не выдержал Багин.
— Что ж ты делаешь, хрен моржовый! Укол пожалел, а долбишься, как дятел. Человек криком кричит, а он!..
— Терпит же… — растерялся врач. — А морфий в больнице. — И, торопясь, стал накладывать шину, а Федя повалился в обмороке.
— В забой бы тебя к нему! Он бы из тебя сделал человека! — рвался голос Багина на слезу. — Ты бы чуял болячки!
Федя погружался в речку, как в теплую ванну, хотя ледяные струи пронизывали до костей. Он поплыл к другому берегу, с наслаждением приглатывая, остужая себя еще изнутри. Коснувшись рукой дна, повернул и увидел под кленом женщину в белом халате. Федя вышел на песок и не знал, что делать, — женщина, поджав под себя ноги, сидела на его одеяле и улыбалась ему нетерпеливо как-то и просветленно.
— Ну, иди же, Феденька, поздороваемся.
Федя узнал забытый голос, а лица не узнал, и ему сделалось так холодно, будто внутри у него был лед. Он попятился в воду, ощутил ступнями, что отмерзают, и подумал со страхом: как это мог только что весь быть в воде? И он пошел под клен, одно только соображая: нужно взять одежду и как-то одеться. То, о чем он мечтал пятнадцать лет — увидеть когда-нибудь Тамару, произошло до противности не к месту. Было ему невыносимо стыдно стоять перед пен голым и прилипших к телу сатиновых трусах. Немея от холода, он взял одежду, искоса увидел плечо Тамары, раковинку уха, и стало ему восторженно-страшно, потому что все это было похоже на сон, как много раз, когда он видел Тамару во сне, — страшно и радостно до озноба. Он оделся за кустом ивняка и долго стоял, думал, что сейчас выйдет, а под клоном никого не будет. Вышел — и обрадовался; Тамара сидела, не исчезла, ждала его, глядела строго, без улыбки. Федя все это увидел коротко, одним — исподлобья взглядом и спохватился: что это он поверил в голос, ведь лицо-то не ее? Сел поодаль, стал глядеть на реку.
— А я знала, что к сыновьям приедешь, — сказала, и Федя едва удержался, чтобы себя не выдать, — столько лет держал в памяти этот голос, а в последние годы не смог удержать, и ему было плохо жить с безголосой Тамарой в памяти.
— Я медсестрой тут работаю, а живу рядом, в поселке. Ты чего, даже посмотреть на меня не хочешь?
Федя не знал, что говорить, — слова-то и так в нем как уголь в целике, а теперь и вовсе грудь будто цементом стянуло. Ему хотелось, чтоб Тамара ушла, и хотелось заплакать.
— В списки гляжу — Косожкины. Увидала их — боже мой! Ты и ты. Расспрашиваю о тебе… Да где! Слова не вытянешь — оба в тебя. И такие хорошенькие, здоровые ребята. Рядом, считай, жили, а столько лет…
Потом она долго молчала и рассматривала Федю. Он чувствовал, что Тамара его рассматривает и ждет, когда он заговорит, и думал о том, что сейчас он уйдет и не встретит ее уже до самой смерти. Река мягко разговаривала, шуршала осока, заря взнялась высоко и весело, и Феде хотелось запомнить эти звуки, зарю запомнить, как когда-то, давно-давно, запомнил холодный, ветреный октябрьский исход дня в пришахтовом сквере, гремящий шум тополей, никак не хотевших раздеваться перед зимой, и рядом с собой Тамару, и ветер между ними, тугой, как стена, и боль — у него тогда после драки с Гореевым болело не лицо, а где-то в груди и около горла…