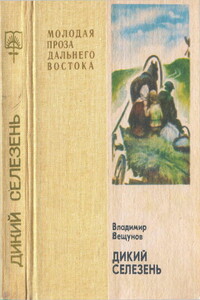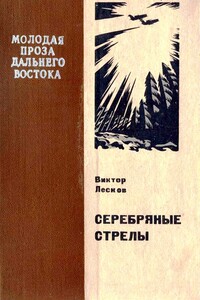Сергей смотрел на освещенную из окна Бахри: в ее пушистые волосы запутался золотой комочек света. Солнце просветило ситцевое платье, смутно обозначив полные стройные ноги. И хотя Сергей повидал много женщин, мысленно оценил: прекрасна!
Бахри тихо подошла к совсем раскисшему Николаю:
— Уедем, Коля?
И так было сказано просяще и искренне, что Николай вздрогнул.
— Куда? — Щеки его белели, как обмороженные. — Может, в Тандов с собой возьмешь? — В голосе издевка и тоска. — Возьмешь, лгунья?! — В монгольских глазах зрели решимость и гнев.
Бахри испуганно отшатнулась.
— Что ты? — подскочил Сергей. — Что болтаешь? Подумаешь, через озеро покричали. Это ж мещанство. Ты совсем не знаешь жизни…
Николай резко отвел руки Сергея, так что тот ударился спиной о косяк.
— Иди ты… — И быстро вышел на улицу. Постояв, направился к гаражу.
…На закате всадник крутился на берегу. Завязав вещи в узел, Бахри вышла в огород. Дед Степан сидел, как и утром, курил. Постояла.
— Прощай, дедушка, — поцеловала в седую копну волос.
— Иди, бог с тобой.
Пошла с узлом через огород под недоуменными взглядами притихших соседей.
Сергей разыскал брата за кузницей. Тот сидел на седле культиватора, вытянув шею, смотрел, как Бахри подходит к лодке, курил взахлеб.
— Что ты так? От счастья… — Сергей волновался, подбирал слова. — Без борьбы, просто?
Николай обернулся. Лицо посерело за несколько часов.
— Уйди, заноза! По-хорошему прошу — уйди! — И, видя, что Сергей еще стоит около, потянулся за гаечным ключом.
— А пошел ты к черту! — попятился Сергей. — Псих несчастный, тряпка! — Он был злой в эту минуту на брата. Уж он бы, Сергей, уладил все в два счета. Тоже, рыцарь.
Лодка подплыла к другому берегу, а дед сидел, и опять мысли путались, обрывались. «Плох небось дружок Салим Батырыч, увидеться бы…» Опять беспокоило озеро: «Жар, пересохнет на нет. И с чего оно Черным зовется? Сроду не видел его черным».
За озером в степь удалялись два всадника. Степь порозовела от заката, и кони под ними пылали огнем.
Я не помню, чтоб он не пел. Пел, когда пас колхозное стадо и когда ехал на повозке по бесконечно длинной степной дороге. Пел в зимние, вьюжные вечера за починкой валенок (а чинить было что: семья десять человек) и в праздники на гулянках. Его песни удивительно соответствовали обстановке и настроению.
Никогда не забуду предзакатную степь. По тракту, стуча колесами, катит пароконный фургон. Фургон пылит, удаляясь к березовому леску. Степь притихла. Ковыль, пушистый, розовый, уходит полосой навстречу закату, за горизонт. Коровы после жаркого дня жадно припали к траве. Отец стоит в рыжих сапогах, воротник рубахи расстегнут. Усы немного обвисли, а черные задумчивые глаза смотрят вслед удаляющемуся на закат фургону.
Спускается солнце за степи,
Вдали зо-о-лотится ковыль, —
плывет тихая песня. Мне кажется, она льется где-то далеко-далеко, так тихо он поет.
Коло-о-одни-ков звонкие цепи
Взме-е-та-а-ют до-ро-жну-ю пы-ы-ль.
Голос спускается до баритона, он нарастает, становится громче, как будто колодники подходят ближе и ближе.
Иду-у-ут они с бритыми лбами…
После «лбами» отец делает маленькую паузу, а потом набирает воздуху и уже рокочет почти басом:
Шагают вперед тя-я-же-ло.
Меня охватывает непонятное чувство: хочется заплакать или прижаться к отцу и говорить, говорить ему, какой он хороший и как я люблю его. Но в крестьянских семьях нежность была суровой, бурных чувств стыдились. Отец ласкал меня редко и сдержанно.
По тракту идут два пешехода. Они останавливаются, слушают.
Вот голос набесновался, вылился чистым бурливым потоком и теперь потек широко, плавно.
День ме-е-еркнет все боле, а цепи
Дорогу метут и ме-е-е-ту-у-т, —
закончил отец трепетно и тихо.
Ушли колодники. Ушли далеко. И хотя мне было многое непонятно, например «с бритыми лбами» (как можно обрить лоб?), но я их видел, когда они показались на горизонте, видел совсем близко, когда голос отца трубил в полную меру, и теперь вижу их далеко, далеко. Они ушли… Отец в усталом блаженстве вытирает картузом пот.
А солнце лежало на краю земли. Грачи, устало помахивая крыльями, молча летели стаями в березовый лесок на ночлег. Становилось прохладно. Пахло чебрецом, донником и острее всего — болиголовом. Я брел за стадом и думал, думал. Сколько раздумий навеяла на мою детскую голову песня отца. Вот так же, наверное, пахло чебрецом и донником, такой же был закат, и ястребок дрожал в небе, должно быть, так же, а они шли и шли в далекую даль, в цепях, и, наверное, мало кто возвращался.