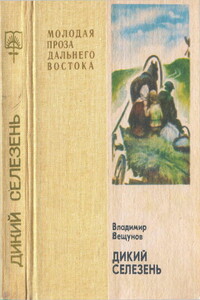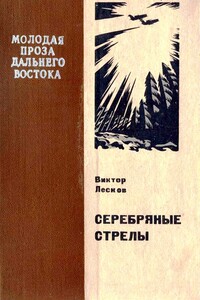Когда-то давно она говорила эти слова своим сыновьям, и это «бить буду» теряло для них смысл угрозы, потому что никогда она их не била, а они ее слушались. Отца сыновья боялись, были при нем стеснены. Выпив, он говорил:
— Я строг, но я делаю из вас мужиков. А мать — она курица.
После той ночи, когда было признано «теперь все», Марковна как-то ослабела, в движениях стала тише и безразличней к хозяйству. Все реже в воображении представляла возвращение сына и чаще думала о той неведомой стране, где он схоронен: «Ладно было б, чтоб березки были у могилки, как у нас».
В бога она верила и не верила. Молилась редко и теперь как-то даже спохватилась, что все равно встреча будет, но уже на том свете: «Только далеко больно он, свет-то тот, должно, большой — отыщемся ли?» Беспокоилась: встретятся, а как жить в том мире и что делать — было сплошной неясностью. Сон ее стал глубже и дольше, и даже днем, занавесив окна, спала часа по два. В лице у нее появилось какое-то неземное отрешение и смирение. Матвей, заметив все это, говорил:
— Развинтилась ты, мать. Хозяйство взапуск пошло.
— А куда нам, Мотя. Много ли на троих надо-то?
«Верно, — думал Матвеи, — много ли на троих… Пусть в спокое поживет».
А «спокоя» жизнь не сулила.
Старики ужинали сегодня поздно и не одни. Раз в месяц к ним приходят ужинать братья Диденки, пастухи, что пасут общественный скот. Деревня маленькая, в два посада, дворов на тридцать. По договоренности пастухи ужинают каждый день у нового хозяина. Им обязательно ставят поллитровку, кроме этого Диденки берут литр молока домой, в конце месяца деньги, а осенью — картошку. Пастухи Диденки никчемные: скот всегда приходил голодный и не поенный, но нанимать больше было некого: Волосников, что раньше пас, стал стареньким и совсем «сел» на ноги.
Братья Диденки были, как говорила Марковна, «блаженненькие» и страшно болтливые. Они много и глупо врали. Вранье было очевидное, не прикрытое какой-либо хитростью, и от этого казалось безобидным. В деревне к ним привыкли и не обращали на них внимания и, если кого уличали во лжи, говорили: «Ну и Диденко».
На дворе у Вороновых они появились шумно, когда Марковна доила корову, а Матвей, сидя на скамейке у сеней, чесал розовый бок поросенка.
— Здорово, дядя Матвей! — Старший, Сенька, сел рядом. Был он приземистый, какой-то шишковатый, с узким сухим лицом. Врать пошел карьером:
— Была у нас свинья — тридцать пять поросят приволокла. Тятя за голову схватился. Где, говорит, им титек брать, и давай каждый день по поросенку на стол. Не успели съесть, а она — еще тридцать пять.
Матвей хрипло смеялся, а Сенька продолжал:
— А откуда у нас, Диденок, сила? Поросят жрали. Вот могу тебя на крышу поднять. Давай? — Сенька порывался взять Матвея, но тот серьезно посмотрел в его бегающие глаза:
— Пошел ты…
А младший, Колька, был бледный, рыжий, с плоским, чечевицеобразным лицом и толстыми губами. Их разительная несхожесть наводила на сомнение о их родстве.
Переломившись через прясло, Колька говорил Марковне:
— Зорьку вашу отдельно пасем. Стадо лежит, а ее на клевер гоним, стадо поднимается — и она с ним.
— Вы уж ей отдыхать давайте.
— Даем, — спешил угодить Колька. — Как ляжет, так целый день и лежит.
— Господи, — шептала Марковна, — за что ты их блаженненькими сделал.
Процедив молоко, Марковна собрала на стол. Матвей поставил бутылку водки, открывать не стал, не хозяин ей: в расчет входит. Колька разлил водку в две кружки. Сенька тянул узким ртом-трубочкой, а Колька глотал, обхватив губами полкружки. Руками брали малосольные огурцы, с набитыми ртами пытались говорить. Рассол грязными струйками тек по рукам.
«Лапы небось год не мыли», — думал брезгливо Матвей. Его раздражала сейчас жадность братьев. И никакие они не дураки, хитрюги. Он закурил у порога.
Марковна устало присела, потчевала пастухов.
Братья сидят, шумно чавкают и болтают без продыху. Марковна ушла в себя, ничего не слышит. Про какое-то письмо говорят слабоумненькие. Захмелевший Сенька за рукав Марковну потянул, и тут четко услышала:
— Не получили, что ль, еще письма-то от Ивана?