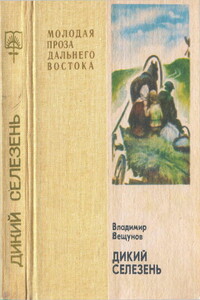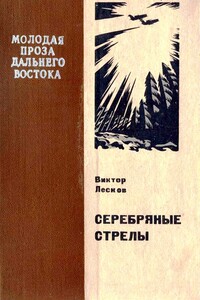Рябчик повисает животом на затвердевшем снегу и не может вытянуть ног, йотом напрягается, выбрасывает передние ноги, рывок — и опять повис. Останавливается и дрожит: устал. Снег твердый кончается и опять глубокий, сыпучий. Алешке жарко, как бывает в степи в знойный полдень. Он падает на сани, лежит, блаженствуя. Рябчик лег в снег. «И ничего, пусть отдохнет. Отвязать бы быков — легче будет Рябчику. А нельзя: померзнут».
С трудом поднимается Алешка, а ветер пригибает к саням. «Ложись, ложись, или плохо лежать?» — упруго давит буря, и он падает вниз лицом.
Ломит пальцы на руках — мерзнут. Поднимается Алешка. Рябчик уже наполовину снегом занесен. Алешка сечет его кнутом, и, должно, слабо: Рябчик даже не вздрагивает.
— А-а-а! Помогите, помо-о-гите-е! — кричит он хрипло, и страшно ему от своего крика.
Тупо, упорно, без конца сечет Рябчика в одно место и видит, как влажнеет у него шерсть. Кровь. Рябчик жалобно мычит, вскакивает рывком, и слышит Алешка, как лопается веревка. Быки остаются на месте. «Придут по следу», — думает безразлично он, а в глазах темнеет, темнеет: ну да, это ночь. И крики со всех сторон: зовут, кличут люди, и прерывается крик, вроде хохот, веселый, девичий.
Алешка натыкается на сани. Лег Рябчик, теперь не поднимается. А зачем? Спать, спать.
И снова он, человек с обложки книги. Кудри заиндевели, плащ малиновый ветер треплет.
— Спишь, мальчик?
— Не сплю я! Помоги. Ты волшебник — все можешь.
— Сам погибаю. У тебя зашиты ищу.
— Ложись тогда рядом, поспим.
— Ты спи, а я постою. — А сам исчезает.
Потом Алешка, жаркий, в озеро бултыхнулся, а мать с берега кричит:
— Не утони, сынка-а!
Алешку нашли к вечеру. Еще тянула поземка, но небо стало чистое; солнце, окруженное цветным нимбом, белело холодом.
В Заозерье, недалеко от дороги, белел холмик, а из него торчал конец оглобли и угол ярма с кольцом. Алешку спас снег и уже холодеющий Рябчик. Мишку же скрыли снега в широком просторе. И уже в конце февраля охотник из соседней деревни ставил капканы на горностаев по краю Горелых болот и наткнулся на кочку, вершинка которой странно чернела. Это был Мишка. Он лежал лицом вниз, протянув руки вперед и подмяв одну ногу под себя. Погиб в движении.
Весной, когда в Заозерье сходили с ума от брачных песен журавли, Толька Стогов и Алешка Воронов поехали в район за комсомольскими билетами.
В райкоме комсомола поставили на учет и Мишку Михайлова, выписали ему билет и тут же сняли с учета.
Толька махал кувалдой, а кузнец Аркадий Мирушников вызванивал ручником. Музыка получалась отменная: хоть в пляс иди. Но к вечеру кувалда вздымалась все ниже, а удар слабел: вымотался Толька, упарился. Лет ему шестнадцать, а кувалда и здорового мужика от восхода до заката ухайдокает.
Мирушников брякнул ручник боком — все. Сам дышит тяжело, со свистом: легкие на войне пробило осколком. Он бросил на земляной пол скованную ось, сполоснул в кадушке лицо. Дверь была открыта, и закатное солнце окрасило верстак, разный железный хлам и дерновую стену кузницы.
— Что, еще? — Толька кивнул на заготовку для другой оси, но от порога, на котором он сидел, отрываться страшно не хотелось.
— Праздник завтра, пораньше кинем. — Мирушников прикурил от раскаленных клещей. — Уйди с порога, прохватит.
В дверях появилась высокая фигура управляющего Стогова. Под мышкой — алая трубочка материи на свежевыстроганном древке.
— Поди залезь на контору, сынок, прибей. Хотел сам, да куда с одной рукой.
Толька помыл руки, развернул флаг, поднял над головой и — к конторе. Солнце весело освещало красный материал.
Алешка Воронов у кузницы ремонтировал сеялку, спешно собрал инструмент, пристроился к Тольке.
— Вышли мы все из народа…
Толька топал большими сапогами, а сзади — строгие Алешка, Стогов и Мирушников. На поляне играли в лапту дети. Шумно пристроились к Тольке.
— С неба полуденного жара — не подступись! —
дружно перебили Тольку, и он, улыбающийся, подхватил со всеми:
— Конница Буденного раскинулась в степи.
Толька по лестнице полез на соломенную крышу, а ребятишки вырывали друг у друга флаг: каждый хотел подержать.