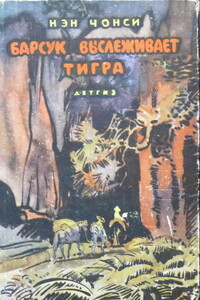Я шел быстро, ветки хлестали по лицу, я встретил четырех ящериц и в конце концов понял, почему мне хотелось плакать. Умерла моя береза. Опали ее листья, и в складках коры кишели отвратительные насекомые. У меня заболело исхлестанное ветками лицо, в голову забралась совершенно нестерпимая мысль, что это все из-за меня. Из-за меня умерла береза, расшатался забор, забрали папу, сломался корабль, из-за меня шампанское — это никакое не шампанское, и не едет Алуница Кристеску, и мне больше не назвать ее просто Алуницей, как в ту ночь с морозом и колядками...
Я заколотил ногами и кулаками по здоровенному буку, который задушил мою березу, и колотил, пока на мне не высохла матроска. Трава тоже высохла, и я лег в нее. Наверное, она была лекарственная, так она пахла, на нас лилось солнце, и я даже подумал, не умереть ли мне, но солнце жгло так сильно, что на мне загорелась одежда. И травяные лекарства запахли горелым, насекомые с мертвой березы переползли на меня, а я ничего не мог, время шло мимо и было такое же мерзкое, как эти насекомые.
Потом небо заволокло всеми облаками, которые мы с Алуницей Кристеску распустили за нашу жизнь. Они почернели, набухли. Теперь они распускали меня, я крепился изо всех сил, чтобы не развалиться на куски, и вздохнул с облегчением, когда увидел соседа, у которого умерла кукушка на курорте или жена на затмении — не помню. Он появился из-за берез с бельгийской трехстволкой наперевес. Я уверен, что это была она, хотя никогда ее не видел. Я хотел обрадоваться, что ружье нашлось и папа теперь вернется, но был уже почти развалиной. Сосед наставил на меня ружье, но я не испугался, потому что растерял зубы в других страхах, и только подумал: что он тут делает, в моих березах, они и так еле держат верхушками черные тучи, не дают им распустить меня совсем. И вдруг все березы вздрогнули, тучи рухнули на меня вперемежку с листьями, и боль хлынула из головы через нос. Время, которое шло мимо, встало. И тогда грохнул выстрел, и гипсовый пастушок разлетелся вдребезги.
Когда я очнулся, уже наступила осень. Первое, что я услышал, было «Воскресенье печальное». Второе был мой брат, он дал мне пять конфет и сказал, что сообщил милиционеру про консервную банку, про окурки и про тени в ту велосипедную ночь, но милиционер не сразу сообразил что к чему, пришлось Урсулике привести его к березе, где меня нашли, оттуда — в Ходаю, а потом — в дом того соседа с затмения, но его там не оказалось, он сбежал в лес, к этим.
Я ничего не понял, и Санду сказал мне «дурак», хотя я и больной. Я спросил его про гипсового пастушка, он сначала удивился, что я не сказал «сам дурак», а потом ответил, что пастушок сам разбился в тот день, когда меня нашли в лесу под умершей березой, хотя он был дома и сидел между окон, рядом с подушечкой для иголок.
Прошло семь осенних дождей, а Алуница Кристеску так и не приехала считать журавлей. Я каждый день хожу на станцию, но на нашей станции больше никто не выходит. Возвращаюсь домой не дорогой, а напрямик, через речку, чтобы не попасть под десятичасовой самолет, он все еще давит на меня. У нас уже и учитель сменился: у него все пальцы целы и он обожает стучать ими по кафедре.
Примерно на втором дожде у меня была большая радость: дядя Никуца не умер в полевом госпитале, а поправился и отступил в беспорядке к Яссам, где у него был знакомый сапожник, который его укрыл. Может быть, я выражаюсь не очень ясно, но моего брата вызвали в милицию и, наверное, не для того, чтобы узнать, сколько будет трижды три. Если он не вернется к обеду, я пойду относить ему еду. Я уже приготовил немного мамалыги с повидлом. Хорошо бы было на второе молоко, но по коровьему календарю до него еще два месяца. На третье я прихватил орехи и пошел к примарии. Около нее стояла машина, но в ней моего брата не было, и я прошел мимо — прямо к окну подвала, чтобы сунуть туда еду. Я был уверен, что Санду в подвале, поэтому мне пронзило голову, как десятичасовым самолетом, когда я увидел его на крыльце примарии в кругу каких-то чужих и веселых людей. Фотограф фотографировал моего брата, а рядом стоял товарищ милиционер, очень довольный.