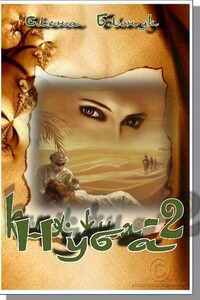Так и стояли напротив, жгли друг друга глазами, а кони топтались, перемешивая копытами рыжую с черным землю проталин, окаймленную уставшим от зимы снегом.
Хаидэ пересела поближе к ручью, вытянула босую ногу, поболтала в холодной воде. Лед! Уперла пятку в песок, обирая с пальцев мокрые прозрачные лепестки.
Стыдно вспоминать, как она тогда раскричалась. Руками размахивала, смеялась злым смехом. На Крючка напустилась, обвиняя в предательстве. Крючок побледнела, потом красной вся стала, а после глаза подняла на подругу и — улыбнулась. Рыкнул в сердце Хаидэ зверь-ярость, взрыл землю кривыми когтями, закапала с клыков кипящая слюна. И так был огромен, что она испугалась — удержит ли? Отвернула Брата и унеслась в степь одна, до поздней ночи.
Все два дня дулась. А потом рукой махнула. Все же — друзья, лучшие. Да и Пень в ту же ночь, перед тем, как в лагерь вернуться, ей сказал. Пришел попрощаться, она и смотреть на него не хотела. Мялся-мялся он, а потом, как выдал! И про то, что нос задирает, фыркает, чуть что не по ней. Не жалеет никого и стала как кусок старой скалы, об который только ветер зубы точит. До слез довел. Утешал потом, сопел виновато. С тем и уехал.
На следующий день к вечеру Хаидэ уж совсем собралась идти к Ловкому — мириться. А он сам пришел. Поскребся, как обычно, в палатку. Хаидэ обрадовалась. Сидели на шкуре и сверху закутались, только пар переплетенными струйками утекал в морозное еще небо. Ловкий говорил. Умный он все-таки. Хороший советник будет у князя Торзы.
— Ты, Лиса, не должна сердиться. Держи себя в руках, Лиса. Ты себе теперь не принадлежишь. Потому других не мучай. Вот, если бросишь сейчас все и удерешь из племени, я тоже удеру. Все брошу. Но ты ведь не убежишь, нет?
И кивнул, когда Хаидэ покачала отрицательно головой:
— Вот, я это понимаю. Но дай нам, княжна, жить своими сердцами. А все остальное — твое. Я, Пень, Ахатта — мы навсегда твои, жизни за тебя отдадим. Но ты нами не играй. Мы тебе — друзья.
— Да уж, Ахатта отдаст! — фыркнула тогда Хаидэ. И покраснела.
— Замолкни, Лиса, — сказал Исма, — я сказал, значит, так и есть.
И Хаидэ замолкла. Сидели, обнявшись. Дышали.
— А ежики? — тихо спросила девочка.
— Ежики будут. Всегда. И не потому что обещал, Лиса, — Ловкий крепче обнял ее плечи под шкурой, — ты, Хаидэ, как звезда в небе. Жизнь внизу идет, а ты — светишь. Одна. А жизнь внизу — идет.
— Ох, Исма, как ты сказал!
— Ах, Лиса, скажи спасибо Флавию!
И рассмеялись оба тихонько, чтоб никого не разбудить. Так и сидели почти до утра, друг друга грея. А утром Хаидэ побежала к Ахатте. Мириться.
«Мать всех трав и дочь облаков, щеки твои светом ночи укрыты и только глаза, как черные рыбы блестят. Брови свои изогнув, смотришь мне в сердце. Колосьев сестра, молния тучи, с локтями из острого света, рот открывая, дышишь полынью. Дочь неба ночного, черного неба, и для тебя в нем протянута света дорога, из звезд. Ноги босые твои чутки и быстры, как ловкие мыши степные и каждый палец светом наполнен. Колени твои, темная женщина ночи, как змей черепа, осенью сточены долгим дождем. Дай мне увидеть бедра твои, пока ты, руками подняв полные груди, взглядом сосков дразнишь меня, из которых впору звездам пить молоко. Дай мне вдохнуть запах, что носишь с собой, ото всех укрывая. Живот твой — луна, плечи — оглаженный ветром краешек скал поднебесных. А шея ровнее дыма столба, что в пустоту, поднимаясь, уходит, но стоит позвать, чуть изгибается. Нет тебя лучше. Ахатта. Мира большая змея, голос степи, запах грозы и в ладонях зерно. Ахатта……»
Хаидэ плакала. Стоя на коленях над потерявшей сознание Ахаттой, вытирала губкой кровь, сочащуюся из глубокой раны на бедре, и, не слушая бормотания Фитии, которая за ее спиной плескала чем-то, что шипело брызгами над жаровней, — готовила травяной отвар, Хаидэ плакала и шептала полузабытые слова. Наклонялась к уху, стараясь сделать так, чтоб та услышала. Но смуглое, посеревшее от обморока лицо оставалось мертвым и постепенно разжимался кулак, через пальцы поблескивая круглыми краешками стекла.
…Ударил барабан и, коротко прозвенев, выжидательно смолкли бубны. Вместо горячих трав толкнул в нос запах потных мужских тел, паленой ветоши, благовоний и перепревших масел. Были и другие запахи, но слабее — поднимался от плиток пола запах расплесканного вина, от маленьких столов наносило то давлеными фруктами, то жареным мясом, то забродившим медом.