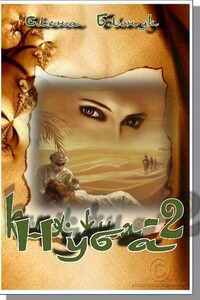Скрипела деревянная подставка, постукивали круглые камушки-грузила. Очень тихо, почти про себя, слышалась песня, которую мурлыкала Хаидэ, заплетая с нитью в узор.
Теренций, поднявшись по лестнице, встал так, чтобы рабыни, которые возились в углу, разбирая в корзинах цветную пряжу, не заметили его, но чтоб ему был виден станок и сидящая за ним жена. Привалясь плечом к холодному камню, смотрел, как солнце, появляясь, золотит собранные на затылке волосы. И светлая рука, облитая солнечным золотом, мерно движется, разговаривая с женскими вещами — нити, пряжа, челнок.
Дожди шли вот уже седьмой день, но утром подул резкий северный ветер, рабы кутались поверх грубых коротких хитонов в истертые зимние плащи из овечьих шкур, а сам Теренций ходил в город в кафтане, скифских штанах из мягкой кожи и снова достал из сундука любимые старые сапоги. Ветер порвал облачную пелену, ледяными пальцами проделал в ней дыры, и полуденное солнце выкатилось из-под толстого слоя туч на полосу чистого неба — как монета выскальзывает из продранного кармана.
Все эти дни Теренций думал о том, что княгиня будет заниматься с новым рабом, вести беседы с ученым египтянином, но кажется, она потеряла интерес к этой игрушке, едва раб стал ее собственностью. Во всяком случае, видятся они только у постели больной беглянки. И, как докладывал Теренцию черный конюх Лой, получив задание присматривать за Хаидэ — они там несколько раз всего лишь слушали сказки, что рассказывала бродяжка. Сказки. Он шевельнулся, отодвигаясь от двери, и крякнул. Нельзя же всерьез верить в эти байки о паучьем лесе и жрецах с дыркой на груди. Мир огромен, да, и полон не только богов, но и темных сил, светлых сил и кто знает, чего еще. Но Теренций, разменяв шестой десяток, знал — все это находится слишком далеко, чтоб пощупать рукой. Там, в старых песнях слепца Гомера. В скифских легендах. В страхах ленивых рабов, которые вечно придумывают себе отговорки, лишь бы оправдать свою лень. Мир это одно, а жизнь, которая под рукой — другое. Да, каждый грек, например, знает, что смерть есть высшая доблесть и главное не как живешь, а как и где умираешь. Но это же не подвигает самого Теренция или его друзей на постоянные мысли о подготовке смертного часа. Так и со сказками. Все они, наверняка правдивы. Где-то там, за многие стадии и переходы от людей. Но не в пределах степной страны, которую смогла пройти недавно рожавшая женщина с израненными босыми ногами.
Потому Теренций больше не злился на Ахатту. Она женщина, пусть себе лежит, пусть кормит Хаидэ сказками, пока та кормит ее вареными овощами из своих рук. Пусть занимает мысли жены. Все лучше, чем занимал бы их тощий жрец с выцветшими небольшими глазами на хитром и быстром лице. Он все же — мужчина. А Хаидэ не такая, как прочие жены, она не будет, как дебелая Архиппа, провожать тающим взглядом сильных юношей-рабов с мускулистыми спинами. Вечно ее привлекает что-то другое, каждый раз неожиданное.
Теренций лукавил перед собой. Кроме названной самому себе причины, была еще одна. Теперь каждую ночь они с Хаидэ проводили вместе. Он поднимался в женскую спальню даже после пирушек, еле переставляя ноги и спотыкаясь на плоских ступенях. Кое-как стащив с себя одежду, падал на постель, нащупывая горячее бедро лежащей рядом жены. Успокоенный, засыпал. И несколько раз просыпался ночью, чтоб снова и снова провести рукой — вот она, рядом. Спит.
В другие ночи, откинувшись друг от друга, отдыхая после любви, они разговаривали, и Теренций, с удивлением и некоторым стыдом за свою прежнюю слепоту, понял — жена умна. Подумал, как с этим быть, и велел приказчику искать ей учителя языков. А еще он перестал уходить к себе ночами. Просыпались теперь вместе.
Так что он не вмешивался в хлопоты Хаидэ вокруг больной.
Наскучив сидеть за облачной пеленой, солнце, наконец, засветило сильно, ярко. Пение птиц заполнило просторную комнату, вливаясь в окна вместе со светом. И Хаидэ повернулась к двери, улыбаясь, сказала невидимому мужу:
— Теренций, погода хороша. Позволь нам поехать на берег, я хочу, чтоб Ахатта подышала морским воздухом. Заодно рабыни постирают одежды, сколько успеем до темноты.