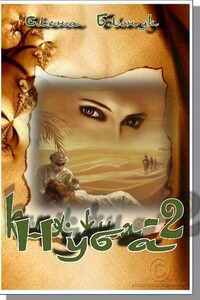Убог все дни проводил на крыше, отдирая почерневшую дранку, приколачивая янтарные балясины и, после укладывая поверх них яркую оранжевую черепицу — Карса залезла в свой тайничок и отсчитала из накопленных денег, чтоб хватило черепицы на всю крышу, да еще осталось покрыть навес над плоской кровлей с беседкой. В старой юбке и вытертой мужской рубахе она ползала вместе с Убогом по крыше, помогала, держа за концы деревяшки и любуясь рядами оранжевой чешуи, говорила:
— Давно хотела. И денежку собрала. Да чужого нанимать — себе дороже. Все в доме рассмотрит, не спрячешь, а потом бойся, ночами не спи — вдруг придет. Да уворует. Зелия опять же, за ней глаз нужен. Поработает такой, а мне потом внука нянчить. Куда внуки, я и сама не стара, — добавляла и улыбалась, поблескивая губами в яркой, купленной для себя краске.
— Меня-то не боишься, — смеясь, спрашивал Убог, откладывая молоток и принимая от Карсы кувшин с ледяным кисляком. Пил, пачкая бороду белым. Та звонко, как девочка, смеялась.
— Не боюсь. Ты хороший. И тебе цитра твоя милей любых денег. Ведь так?
— Так, добрая. Так.
— А хочешь, я тебе новую куплю?
Убог ставил на разобранную крышу кувшин и, вытирая бороду, качал головой:
— Нет. К этой привык, она сама меня нашла.
— Да уж. Она нашла, а сапоги, что сменял, тебя потеряли.
— Что сапоги. И без них хорошо, — сидя на крыше, Убог вытягивал ноги и шевелил пальцами.
— Я тебе куплю, — решила Карса, — мягкие, сафьянные, как вот стражники городские носят.
— Ты мне и так уже рубаху справила и кафтан. Штаны новые. Не надо сапог.
— Куплю! Ты ж работаешь. А если думаешь, не заработал, то вечером, на кровле… ты мне сыграешь, Убог? На цитре своей?
— Сыграю, — соглашался певец, щурясь на солнце. И поднимался, потягиваясь, — еще пару рядов кину и пусть прилеживается.
В большой комнате Зелия, ведя по ладоням тонкие линии коричневой хны, слушала доносящиеся из дыр в разоренной крыше разговоры, смех матери, и, поднимая нарисованные брови, думала напряженно. Вспоминала, как по вечерам Карса льет из черпака воду на широкую потную спину Убога. Бродяга поводит плечами, фыркает и трясет головой, а с русых волос летят в стороны сверкающие в свете фонаря капли. Нищий, нищий, зло повторяла себе, разглядывая в зеркальце длинный миндаль черного глаза. И такой, такой сильный, красивый, светлый, как барашек-перволетник. А без копейки в сапоге. Да и сапога нету, мать дура собралась покупать. Эдак все ему отдаст. А он за это…
Зло растерла по руке коричневую жижу и встала, выполаскивая в миске ладони с испорченным узором.
Ужинали теперь втроем. На плоской крыше рядом с навесом маленького второго этажа Карса расстилала жесткую скатерть и ставила на нее миски с тушеными овощами, подносик с жареным мясом, плошки с вареньем и кувшин с простоквашей, а то и с молодым некрепким вином. Когда в первый раз, грузно суетясь, приготовила стол, Зелия, принаряженная к уличным танцам, взобралась наверх и, оглядывая посуду, вдруг решила:
— Дома буду. С вами.
И никуда не пошла, не обращая внимания на тяжелый материн взгляд, села во главе расстеленной скатерти, распуская вокруг сильных колен цветные, поблескивающие в свете звезд юбки. Карса на правах хозяйки присела рядом с Убогом, подкладывая ему в миску мяса и фасоли. И когда попил, махнула рукой на то, что дочь сидит рядом черным изваянием, изредка кидая в рот кусочки, и посветлев лицом, попросила:
— Сыграй, Убог. Спой своих песен.
— Спою, — согласился тот, прилаживая на коленях цитру. Прикрывая глаза, тронул струну, занывшую в плотном стоячем воздухе, который изредка шевелил налетающий от далекой реки ветерок. И запел, заговорил речитативом странные куплеты о пчелах, истекающих отравленным медом, вплетая в песню слова на незнакомом языке.
С тех пор Зелия не уходила по вечерам, и ее черный силуэт неподвижно рисовался на фоне беленой стены. Когда Убог пел, Карса переползала по крыше поближе к дочери, чтоб лучше видеть певца. Сидели молча, тонкая изогнутая, с высокой шеей, на которой блестели ожерелья (на крышу к ужину Зелия надевала лучшие свои наряды) и большая, грузная, с наверченным на черные жесткие волосы тюрбаном.