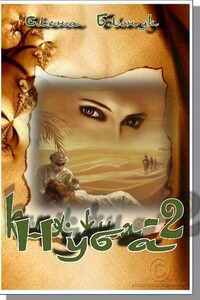— Ты не ответил. Я получу свой подарок?
— Спустись-ка. И оставь свою наушницу там.
Шлепая босыми ногами, Хаидэ быстро сбежала вниз, и он подумал о тридцати с лишним годах, лежащих меж ними.
— У меня были сыновья, княгиня. Теперь моя жена — ты. Мне нужен сын.
— Это… это слишком большая цена.
— Да? А мне кажется, вполне нормальная, для законной жены. Которая просит себе в игрушки другого мужчину. Ты говорила со мной как взрослая женщина. Я сейчас говорю с тобой так же.
— Ты сам перестал заходить в мою спальню.
Сказала тихо и в голосе неожиданно для нее самой, прозвучал упрек. Теренций усмехнулся.
— Это не разговор для лестницы, жена. У нас обоих есть, что сказать, и это будет впустую. Потому я говорю, будто только что вышел на эту дорогу и делаю первый шаг. Ты хочешь раба. Мне неважно, для чего он тебе. Если… Я сказал о своих условиях.
— Я подумаю, Теренций.
— Вот и хорошо, подумай.
И глядя, как она подбирает длинный подол, собираясь ступить выше, добавил:
— А наемников можешь оставить отцу. Или нет, пусть их будет пятеро. Уже отвернувшаяся Хаидэ от неожиданности отпустила подол и прижала руку к губам, пачкая ее помадой. Побежала наверх, повторяя про себя слова отказа, что превратились в продолжение торговли. Пусть их будет пятеро. И спать с ней.
Теренций сидел в покоях жены и, хмурясь, оглядывался. Втянул воздух и скривил широкое лицо с обвисшими щеками.
— Тут все еще пахнет твоей новой игрушкой. Что, рабыни не могут прибраться как следует?
Хаидэ отошла от окна, села на придвинутый Мератос табурет, расправила складки тонкого льна.
— Ты просто хочешь ругаться.
— Нет.
— Иногда ты похож на мальчишку, высокочтимый Теренций.
— Для зрелого мужчины разве это плохо?
— На капризного мальчишку, которого давно не наказывали.
Она улыбнулась мужу, наклоняя голову к плечу. Из-под золотого обруча выбилась завитая прядь и закачалась у щеки. Румяна, сурьма на глазах. Теренций с удивлением присмотрелся.
— Ты куда-то собралась?
— Нет. Я знала, что ты придешь.
— Раньше тебя это совсем не волновало, княгиня.
Хаидэ кивнула. Прядь скользнула по щеке, щекоча кожу. Надо же, это приятно, спасибо девчонке Мератос, глупой девчонке, напомнившей ей о том, что мужчины просты.
— А сейчас волнует.
Теренций вытянул ноги и откинулся к завешенной ковром стене. Скрестил на широкой груди толстые руки. Заявил:
— Я тебе не верю.
— Ну что ж, — Хаидэ встала с табурета. Медленно прошла по комнате, трогая стоящие на поставцах безделушки, встала так, что дневное солнце просветило края одежды. И подняла руки, поправляя волосы.
— Веришь, или не веришь, есть ли разница? Я хочу мира. Сколько можно воевать с собственным мужем?
— А ты спросила меня? Я хочу этого мира? — он подался вперед, хлопнул себя по колену.
Хаидэ смотрела внимательно и печально. Но и с удивлением. Вот он сидит, тот, кому ее отдали когда-то, а она была совсем девочкой и ничего не хотела, лишь бы остаться в степях и летать на черном огромном Брате, навстречу западному ветру. И за то, что их разделяли прожитые им годы, за то, что она была вырвана из своей земли, за обиды, наносимые ей по его грубости и невнимательности, она ненавидела его. Поначалу. Но ненависть — удел ограниченности, так поняла позже, и отказалась от нее, сменяв на равнодушие. Для того, чтобы понять, равнодушие задевает мужчину сильнее ненависти. Вот если бы годы, разделяющие их, были не так длинны. В этом, сидящем с расставленными ногами, толстыми и крепкими, с обвисшим от постоянного хмеля лицом и небольшими недобрыми глазами, совсем не виден тот юноша, каким он когда-то был. Лишь в чертах крупного лица еле-еле мелькнет иногда абрис другого, незнакомого ей человека. Понравился бы ей молодой грек, полный надежд и честолюбивых устремлений? Каким он был? Как Исма? Жесткий и одновременно добрый, спокойный и иногда белеющий от ярости, так, что на обтянутых кожей скулах блестели бескровные пятна? Или таким, как Абит? Увальнем, с немного растерянной улыбкой, с которой он мог свалить и коня.
— Теренций. Каким ты был?
— Что?
— В свои двадцать лет, каким ты был? Ты помнишь это?
— Ты считаешь меня беспамятным стариком?