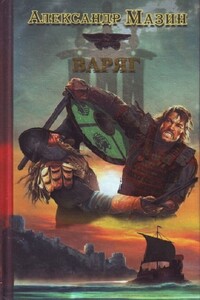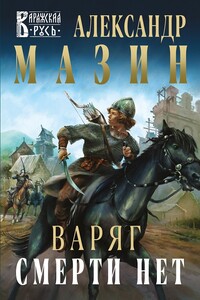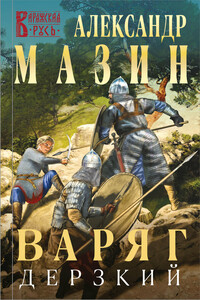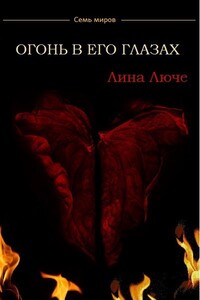– Да, а до этого через стену перелез, мне о том Курчавый рассказал.
– Угу… а до того, как он смылся, он вроде считать умел?
– Да, по-арамейски, и писать мог на греческом и по-нашенски.
– Прямо писать?
– Ну не знаю, люди говорят, – пожал плечами Сашко.
– А может, он из тех ромеев, которых вчера по городу искали?
– И что же, он сюда прибежал, да как так может быть, зачем ему это?
– Как, да вот так, – Камен почесал подмышку под костылем, – схожу-ка я к Димитру, пусть он пришлет пару воев. А ты беги к тому сараю и приглядывай, чтобы тот грамотей никуда не сбежал. Понял?
* * *
Данилу разбудили тычком древка в живот. Он согнулся, попытался отмахнуться, не совсем понимая, что случилось. Его тут же скрутили, ткнули лицом в солому, достаточно умело обыскали. Сразу нашли кривой нож, кистень, забрали, естественно. Хорошо, что окровавленную и порубленную свитку Данила выбросил, а его сапоги и портки были так заляпаны грязью и, по-честному сказать, воняли, что отыскать на них следы крови не представлялось возможным.
Тем не менее Молодцова подняли за руки и куда-то повели, ничего не объясняя. Пока его вели, он думал. Что-то тут было не так, но пока непонятно что. Вдруг его просто приняли за какого-то бродягу, который пролез во дворец. Что ему тогда светит? Плетей? Тоже ничего хорошего. Двое воинов резко остановили Молодцова, нагнули еще ниже, проезжающий мимо всадник остановился:
– Кого это вы тащите, опять ворюгу-кощунника?
– Да не, вроде, говорят, может даже быть одним из тех ромеев, – ответил один из конвоирующих Данилу.
«Ромеев?! Почему ромеев?» – пронеслось у него в голове.
– У, отродье бешеной псины, ну ведите его в подвалы, там он быстро запоет соловьем.
– Ну это как водится! – пробасил стражник.
В груди у Данилы возник холодок, он хорошо представлял, как вели допрос в Средневековье. И что опытный палач может сделать с человеком. Увы, реальность скорее всего окажется куда страшнее фантазии, и царские палачи смогут изрядно удивить Молодцова.
Холод из груди растекся по всему телу. Это был страх: мерзкий, противный, скручивающий мышцы спазмом, заставляющий пульс стучать в висках. Возможно, Данила упал бы, если бы его не держали два дюжих воина и не тащили… в подвал. Что хуже всего, страх мешал думать, путал мысли, но Данила все равно старался рассуждать:
«Почему ромеи?! Почему нас приняли за ромеев?! Куда меня ведут, зачем? Пытать! Что они обо мне знают?! Что-то здесь не так. А делать что? Держаться, терпеть – не вариант, просто не выдержу. Воислав сказал, что будет ждать меня через два дня у Угорских ворот? Один день почти прошел, потерпеть еще один и сдать всех? И что со мной сделают за один день? А потом? Что здесь делают со шпионами, убившими несколько стражников? Вряд ли что-то хорошее. Надеяться на Воислава? Не вариант, пусть лучше уж батька забирает своих и уходит, нечего им из-за меня рисковать. Тогда что? Наврать, слепить легенду? Под пытками? Тоже мне, боец невидимого фронта, но какой еще выход есть? И все-таки почему нас приняли за ромеев?»
За то время, что Молодцова конвоировали, он понял, что его напрягает. Сам конвой. Всего-то два воина. Хотя прошлой ночью они с батькой разогнали буквально два десятка стражников. Конечно, в большей степени так случилось благодаря воинскому таланту Воислава. Но булгарам откуда это знать? Они не могли определить, кто перед ними лежит в соломе. Значит, они в самом деле не знают, кто такой Данила? Выходит, у него появляется шанс, маленький, но шанс?
Пока же самые худшие опасения Данилы сбывались: его провели вниз по лестнице между заплесневелыми стенами, где от шагов раздавалось гулкое эхо, в темное помещение с низким потолком, посадили в неудобное кресло с высокой спинкой, ремнями перехватили голени, запястья и даже шею. Перед этим один из конвоиров снял с Данилы сапоги, брезгливо осмотрел и отбросил в сторону. Покончив со всеми этими делами, стражники просто ушли, без угроз, без слов, оставив Данилу одного в пыточном подвале. И это было гораздо хуже, чем если бы его просто избили или попробовали напугать. Все было сделано так уверенно, скорее рутинно, что не оставалось сомнения в неотвратимости чего-то ужасного. И эта неотвратимость вкупе с ожиданием выматывала нервы, подтачивали волю не хуже выкрутасов палача.