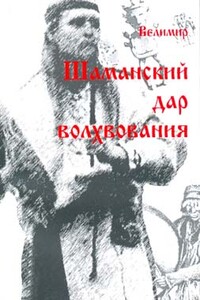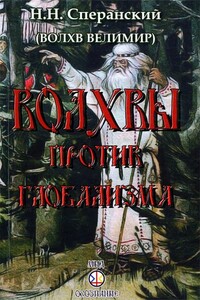Аллегорически, в мифе, Мировая Воля является нам утицей над волнами Мирового Океана. Утица ищет опоры, чтобы отложить яйца, из которых потом сотворится Мир во всем его разнообразии. По южнославянской линии мифа утица ныряет на дно мирового океана и добывает ил, из которого боги творят твердь Земли, и это удается не с первой попытки, только после напряжения всех сил богов и самой утицы.
До этого, согласно северной линии мифа (Калевале), по велению бога, сам собой распахнулся Воздух. Из него явилась Вода, а из воды — Земля.
По линии мифа, сохранившейся у народов Севера, под воду ныряет не утица, а слабейший и младший из богов. Он, добыв ил, пытается утаить его часть от старшего, который выглядит как его повелитель. С этого начинается конфликт и состязание обоих богов в творении. Младший пытается доказать через творение нового свое превосходство, а старший все время поправляет и облагораживает не удачные творения своего соперника. Так появляются все разнообразие мира: горы, леса, озера, болота, звери, птицы, люди, которых учит сперва один бог, а потом другой.
В древней мифологии, боги — творцы соревнуются в творчестве, как, надо думать, это делали первобытные охотники, изображая оленей. В более поздних версиях этого мифа, младший из богов оказывается Шайтаном, а старший — превращается в Ахуромазду. Шайтан чувствует себя уязвленным, и становится не сколько творцом, сколько разрушителем сотворенного старшим из богов Мира. Старший бог осознается людьми уже как единственный творец. Эта же картина повторяется в исламе и христианстве.
5. Изменение мифологической концепции в сторону обострения конфликта и возвышения только одного из богов, случилось незаметно для человечества, но оно очень существенно для нас, ибо важно для понятия добра и зла. Исторически первоначально мифологема строилась на состязании двух сотворцов, но впоследствии ее стали извращенно и ошибочно понимать как состязание антагонистов, из которых только один истинный творец и единственно добрый бог, а второй — разрушитель, нарушитель мирового закона единственного творца, и поэтому противник добра и носитель мирового зла. В силу этой мифологической ошибки, мир как бы получил две фазы бытия. До появления божественного антагонизма и после его появления.
В целом, представление о боге — разрушителе как о злом боге нуждается в уточнении. Злой разрушитель препятствует естественному бытию Природы. Значит, он ориентирован в сторону насилия над Природой, на сопротивление Мировой Воле к жизни.
Еще до появления антагонизма, старший бог и его потомки ушли на Небо, жить в вечном белом свете. Они сохранили свою власть над своими творениями на Земле и стали зваться белыми богами. Потомки младшего из богов, стали жить на Земле. Они не имели своего света и стали зваться черными богами. Белые боги более склонны к созиданию, черные — к разрушению созданного.
Насколько белые и черные боги оказываются в согласии, настолько соблюдается закон мироздания. По этому закону разрушается и умирает лишь то, что совершило свою жизненную задачу и исчерпало свои силы. Умирает, чтобы уступить место своему лучшему повторению.
Насколько белые и черные боги продолжают находиться в конфликте — настолько закон мироздания нарушается: все сотворенное и все живое не исполняет своей цели и гибнет преждевременно, против Мировой Воли. Для людей этот закон дан в виде Нравственного Закона. Он исполняется над человеком после испытания. Ниже будет описан характер его исполнения.
Представления об антагонизме богов появились именно из того, что люди приписали черным богам лишь функции нарушителей закона мироздания. Очевидно, это могло случиться тогда, когда нарушители Закона начинали преобладать и Мир подошел к границе хаоса.
Древняя мифология сохранила представления о золотом веке, о времени вечной весны, которая, как мы заключаем, все же не вечна, но по нашим человеческим меркам очень длительна. Надо понимать, что это и была эпоха творческого состязания богов, когда антагонизма на мировом уровне не существовало, и люди жили в отношениях доброго партнерства много дольше, чем теперь, не болели, и уходили из земного мира в небесные кущи с чувством пройденного до конца пути и завершенного дела.