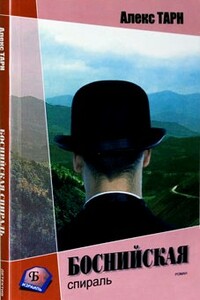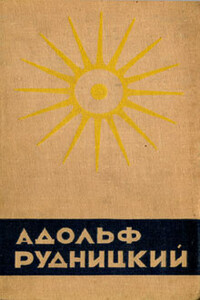Она принадлежала к племени рашайда, как и ее брат, ненароком убивший бедуина племени таамире из-за дурацкой ссоры по поводу автомобильной стоянки в Бейт-Лехеме. Кто тогда подъехал раньше?.. Кто потом?.. Кто произнес первые обидные слова?.. Кто кого толкнул?.. И почему оказались на самых неподходящих местах доска, об которую споткнулся неловкий таамире, и камень, об который он, упав, сломал свою коричневую, поросшую густым волосом шею? Кто теперь ответит на эти вопросы? И надо ли на них отвечать? Смерть есть смерть, а за смерть приходиться платить, даже если ты принадлежишь к дикому племени рашайда, для которого, как известно, не писаны никакие законы.
Территория рашайда находится на юге Иудейской пустыни. Это племя отверженных. Как и прочие племена, они живут контрабандой и рэкетом окрестных деревень, но, единственные из всех, не делают даже малейших уступок оседлости. Добротные каменные дома, построенные для них властями, пустуют. Нрав рашайда считается чересчур диким даже среди бедуинов, настолько, что никакое другое племя никогда не согласится породниться с ними. Оттуда не берут девушек в жены; туда не выдают замуж своих дочерей. А потому никто не ожидал, что за убийство на автостоянке рашайда станут расплачиваться при помощи «оры». Может быть, именно поэтому они и сделали такое издевательское предложение? С рашайда станется… А может быть, несчастная девочка просто чем-то рассердила отца, и он решил проучить ее, заодно с расплатой за кровь, да еще проучить так, чтобы другим стало неповадно перечить главе семьи.
Так или иначе, но что случилось, то и случилось. От «оры» не отказываются; не смогли отказаться и таамире. Но при этом остаться в новой семье у девушки не было ни единого шанса. На рашайда не женятся даже задарма.
Наджед остался сиротой довольно быстро. Куда вдруг девалась мать, ему не объяснили; просто исчезла и все. Братья ли зарезали, сама ли ушла умирать куда подальше в темноту пещер — неизвестно. С Наджедом вообще мало кто общался, больше пинали. Возможно, поэтому он приноровился разговаривать сам с собой: сядет на корточки в сторонке и говорит, говорит, говорит. Это расскажет, о том спросит… и ответит, и пояснит, и повторит, если непонятно. Наедине с собой можно было говорить на сотни голосов, за тысячи людей — совсем не скучно. Главное — не зазеваться, вовремя уклониться от тычка, от подзатыльника. За что? Понятно за что: чужая кровь, вражья. Все равно к таамире пойдет, чего с ним цацкаться?
Но и у таамире, куда его, наконец, сбагрили, легче не стало. Как был чужим, так и остался. Кто станет доверять выродку, вскормленному племенем рашайда? Что он в жизни видел, кроме своих вонючих шатров? Сами-то таамире уже давно большей частью оседлые, живут в домах, в деревнях, а то и в богатом Бейт-Лехеме — щиплют за упругие ягодицы тамошних беззащитных христианочек, собирают дань с жирных ювелиров, блюдут порядок в тонком деле торговли травкой, постреливают по ночам, чтоб все знали, кто тут хозяин… Разве пристроишь в такое деликатное место дикого мальчишку-рашайда? Но и возвращать нельзя — все же, как ни крути, а своя кровь, так просто не выбросишь.
Подумали, подумали, да и отослали Наджеда подальше с глаз долой, в пустыню, коз пасти, к тем нескольким таамирским родам, что еще сидят в шатрах невдалеке от автострады, спускающейся из Иерусалима к мертвому соленому морю. А он и рад — с козами-то не в пример легче, чем с людьми. Коза — не человек, слушает внимательно. Склонит эдак голову набок, уставится умными янтарными глазами и слушает, слушает, размеренно двигая челюстями, как будто переспрашивая: «что-что?..» «что-что?..» Ну как с такой не поговорить?
Таамирские сверстники Наджеда сначала не жаловали, к себе не подпускали, побаивались недоброй рашайдовской славы. Но у совместной работы свои правила, костер один и стадо одно: волей-неволей сошлись поближе. Как-то зимой, когда гнали коз по узкому вади к востоку от Хирбет Абу-Табак, один из парней сказал Наджеду, указывая на небольшую скалу, нависшую, как клюв, над отвесным сорокаметровым обрывом: