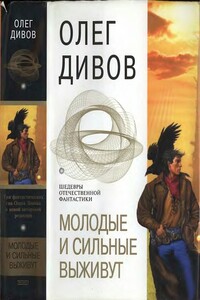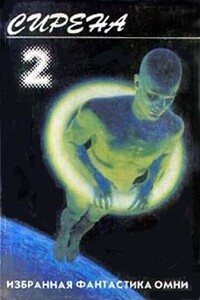Кормильцы, ворча и толкаясь, стали перестраиваться в колонну по два. Шатун, как бы придавленный мешками, склонился так низко, что и лица его нельзя было рассмотреть. Головастик схватил на руки чье-то орущее дитя. Яган, как за талисман, уцепился за свои трусы.
– Что делать будем? – шепотом осведомился я у друзей. – Выдадут нас, душой чую. Смотрите, косятся как.
– Надо бы со старостой столковаться, – сказал Головастик. – Если он за нас поручится, тогда проскочим.
– Ну так зови его.
– Как же, послушает он меня. Пусть Яган позовет. Его голос больше подходит.
– Старосту ко мне! – с готовностью гаркнул Яган. И действительно, получилось это у него весьма убедительно.
Тощий мужик с вдавленной грудью протолкался сквозь плотно сбившиеся ряды и окинул нашу четверку оценивающим взглядом.
– Ну чего орете? Что надо?
– Как только служивые начнут твою деревню пропускать, скажешь, что мы с вами идем.
– И не собираюсь даже, – ухмыльнулся староста. – С какой стати мне врать?
– Скажешь, – пригрозил Яган. – Иначе кишки из тебя выпустим. Видишь, у нас нож имеется. Железный. Учти, нам терять нечего.
– Мне мои кишки давно уже без надобности. Ты меня кишками не пугай, пуганый я.
– Я тебя не собираюсь пугать, братец, – сменил тактику Яган. – Выручи! А мы за это тебе добром заплатим. – Он выразительно похлопал рукой по мешку.
– И что там такое у вас?
– Говорить боюсь, чтобы не услышал кто чужой. Но тебе, братец, до конца жизни хватит. Лишь бы служивые не отобрали.
– Это другой разговор, – буркнул староста. – Через заставу идите, так и быть. Препятствовать не буду. Ну а дальше нам не по дороге. Немедля отваливайте куда-нибудь. Народ вы лихой, сразу видно. Мне такие в деревне не нужны.
Застава была как застава, я таких немало повидал: узкий проход в заграждениях из колючего кустарника, жидкий строй уже порядочно осоловевших служивых, мимо которого все мы должны проследовать, небольшая кучка реквизированного барахла, запах пота, браги, прокисшей каши. Новобранцы обшаривали поклажу, старослужащие принимали у них добычу, десятники высматривали в толпе всяких подозрительных личностей. Полусотенный, с тусклыми знаками различия на истрепанных трусах, проводил окончательную сортировку кормильцев. Наш староста не без достоинства, но с должным почтением приблизился к нему.
– Твои? – Полусотенный указал на первую пару в нашей колонне.
– Мои.
И пошло-поехало: «Твои?» – «Мои». – «Твои?» – «Мои».
В пятом ряду шагал здоровенный мужик, почти на голову выше любого из служивых.
– Твой? – деланно удивился полусотенный.
– Мой.
– Какой же он твой? Это дезертир! В сторону его, ребята!
– Какой же он дезертир? Хоть у кого спросите! Племянник он мне! – Староста с досады даже сплюнул, но верзилу уже втащили в толпу служивых.
– И этот не твой! – Палец полусотенного указал на молодца в следующем ряду, хотя и не вышедшего ростом, но отменно кряжистого. – Да и вон та баба тоже не твоя! Спорить будешь?
– Буду! Замужняя она! Мужик ее рядом идет. И дети при них!
– Ты с кем пререкаешься? Давно бича не пробовал?
– Давно. Со вчерашнего дня. На нижней заставе всыпал такой же начальник, как ты.
– Значит, мало всыпал!
Бабу, упитанную и довольно миловидную, между тем повели под руки в сторону, и она визжала, призывая на помощь супруга. Тот, однако, равнодушно отмахивался: не ори, дескать, коли забрали, значит, так оно и надо, чего впустую верещать, и так башка раскалывается.
Дети их, целый выводок сопливых нечесаных карапузов, каждый со своим отдельным мешком на спине, с явным интересом наблюдали за происходящим. Когда мать взвыла особенно сильно, они даже запрыгали от восторга и запели хором: «Плакса-клякса, плакса-клякса!»
И вот наступил наш черед. Меня и Головастика пропустили беспрепятственно. Взгляд полусотенного не выразил при этом никакого интереса, хотя за исконных кормильцев принять нас было довольно трудно. Следующим шли Яган и Шатун.
– Твои?
– Мои, – скривился староста, уже прощаясь в душе с вожделенными мешками.
– Какие они твои, доходяга проклятый! Твои все вшивые и дохлые! А эти смотри, какие удальцы! Особенно тот, с мешками!