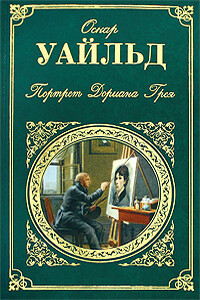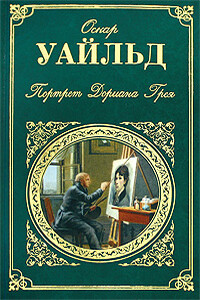Путь наш лежал через базар мимо маленького храма, посвященного Хануману – божественной обезьяне, которая особо почитается в стране. Все боги достойны уважения, равно как и их служители. Лично я очень расположен к Хануману и питаю самые добрые чувства к его соплеменникам – большим серым обезьянам, которые обитают в горах. Никто ведь не знает, когда нам понадобится помощь друга.
В храме горели светильники, и когда мы проходили мимо, то услышали священные песнопения. Жрецы индийских храмов всю ночь славят своих богов. Флит ринулся вверх по ступенькам, – мы не успели его удержать, – похлопал по спине двух жрецов и принялся деловито тушить окурок сигары о лоб Ханумана, вырезанного из красного камня. Стрикленд силился оттащить Флита, но тот уселся на пол и торжественно изрек:
– В-в-видели? З-зверь теперь… ик… с клеймом. Это я… ик… его заклеймил. Хорош, в-верно?
Храм мгновенно ожил и загудел; Стрикленду было слишком хорошо известно, что святотатца, оскорбившего божество, неизбежно постигнет кара, и он сразу же сказал: теперь добра не жди. Жрецы его знали, потому что он занимал столь важный пост, давно жил в стране и с удовольствием проводил время в обществе местных жителей, и сейчас огорчению Стрикленда не было границ. Флит расселся на полу и не желал вставать. Он убеждал нас, что Хануман – отличный старик, мягче подушки не сыскать.
Вдруг из ниши, что была за статуей божественной обезьяны, неслышно возник Серебряный Человек. Несмотря на пронизывающий холод, который стоит в эту пору, он был совершенно наг, и тело его светилось, точно серебряная филигрань, потому что он был прокаженный, вроде того библейского, про которого сказано, что рука его побелела, как снег[1]. Лица у Серебряного Человека не было, его разъела ужасная язва, и весь он был покрыт струпьями. Мы со Стриклендом наклонились к Флиту, пытаясь поднять его и вытащить на улицу, а храм уже плотно набился людьми, они как из-под земли выросли, и тут вдруг прокаженный поднырнул у нас под руками, издал звук, похожий на мяуканье выдры, обхватил Флита и прижал голову к его груди, – нам с трудом удалось оторвать его от нашего приятеля. Прокаженный ушел в угол и сел на пол, продолжая мяукать, а народ все валил в храм и валил.
Пока Серебряный Человек не дотронулся до Флита, жрецы клокотали от гнева. Но теперь они успокоились.
Все стихли. Наконец один из жрецов приблизился к Стрикленду и сказал на безупречном английском языке:
– Уведите вашего друга. Он причинил Хануману зло, теперь черед Ханумана.
Толпа раздалась, мы выволокли Флита на улицу.
Стрикленд был в ярости. Он сказал, что всех нас могли зарезать и что Флит должен благодарить судьбу за такой счастливый исход.
Флит никого благодарить не стал. Он заявил, что хочет спать. Он был блаженно пьян.
Мы двинулись дальше, взбешенный Стрикленд молчал, и вдруг Флита начала колотить дрожь, он весь покрылся потом. Какая ужасная вонь стоит на базаре, стал возмущаться он, почему это власти разрешают бойни так близко от английского квартала.
– Неужели вы не слышите запаха крови? – спрашивал Флит.
Наконец мы уложили его в постель; уже светало, и Стрикленд предложил мне выпить виски с содовой. Мы сели в столовой со своими стаканчиками, и он заговорил о происшествии в храме, признавшись, что решительно ничего не понимает. Стрикленд не выносит, когда туземцы его мистифицируют, потому что поставил целью своей жизни взять над ними верх, пользуясь их же оружием. Пока он этой цели не достиг, но лет через пятнадцать-двадцать ему, надеюсь, удастся сделать несколько шагов по направлению к ней.
– Они бы должны разорвать нас на части, – сказал он, – а этот прокаженный просто сидел и мяукал. Не понимаю, ничего не понимаю. Не нравится мне это.
Я ответил, что, по всей вероятности, совет храма подаст на нас в суд за оскорбление религиозных чувств народа. В Уложении о наказаниях для Индийской империи есть статья, под которую как раз и подпадает проступок Флита.
– Дай-то бог, сказал Стрикленд, – будем надеяться, что все этим обойдется.
Потом я отправился домой, но сначала заглянул в комнату Флита и увидел, что он лежит на правом боку и чешет грудь с левой стороны. Спать я лег в семь утра, никак не мог согреться, на душе было тревожно, тоскливо.