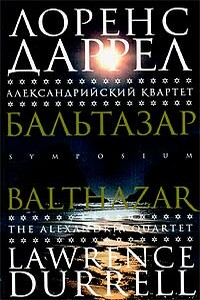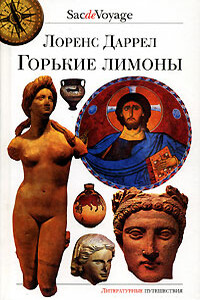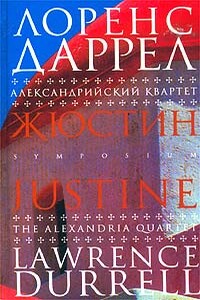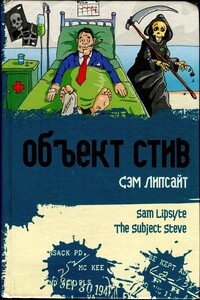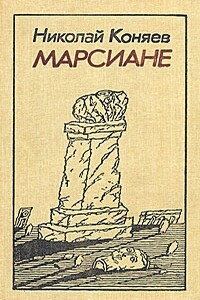«Наверное, дрова. Я колол дрова».
«А. Вот оно что! Но выглядишь ты хорошо, очень хорошо».
(Неделей позже она позвонит Клеа и скажет: «Бог ты мой, он стал такой неотесанный. В нем и раньше-то особой тонкости не наблюдалось, а теперь и то немногое, что было, как в трясину ушло, мужик мужиком».)
Снова наступила тишина. Нессим кашлянул и дотронулся пальцем до черной повязки на глазу. Тон Жюстин явно был ему не по вкусу, уж больно тонок лед, а под ним — этого даже я не мог не заметить — вскипала тяжелая, океанской безумной мощи волна ненависти, самый неожиданный компонент в этом новом для меня коктейле. Неужто она и впрямь стала стервой? Или она больна? Трудно было так вот сразу расстаться с памятью о той колдовского темного очарования женщине, о любовнице, о хозяйке ли дома, каждый жест которой, сколь угодно неблагоразумный и необдуманный, чеканил звонкую монету душевной щедрости, искренней и самозабвенной. («Итак, ты вернулся, — говорила она между тем с шероховатой сухой хрипотцой, — и застал нас запертыми в Карме. Как никому не нужная цифирь[22] в старом гроссбухе. Безнадежные долги, Дарли, беглые каторжники, а, Нессим?»
Придумывать ответ на такого рода шпильки смысла не было. Мы ели молча, и слуга-араб так же тихо делал свое дело. Время от времени Нессим обращался ко мне с какой-нибудь случайной репликой на нейтральную тему, быстро, коротко, односложно. Мы все чувствовали, как тишина вокруг нас теряет значение и влагу, пересыхает понемногу, словно большое озеро в пустыне. И вскоре мы, как изваяния, как соляные столпы, останемся сидеть здесь навечно, пустив сухие корни в стулья. Немного времени спустя вошел слуга, принес два термоса, пакет с едой и сложил все на дальнем конце стола. «Значит, сегодня ты тоже едешь?» — В голосе у нее мигом полыхнули угли.
Нессим осторожно кивнул и сказал: «Да, у меня опять дежурство». Потом прочистил горло и добавил, обращаясь ко мне: «И всего-то четыре раза в неделю. Зато есть чем заняться».
«Есть чем заняться, — насмешливо, чуть не по буквам повторив его слова. — Он уже потерял глаз и палец, и ему все еще есть чем заняться. Не выдумывай, мой дорогой, скажи правду, ты ведь на все готов, чтобы только убраться из этого дома. — Потом она наклонилась ко мне и продолжила: — Чтобы убраться от меня подальше, Дарли. Он ведь тут с ума сходит, я ему такие сцены закатываю. Это если начистоту». Сцена была вульгарней некуда, я просто не знал, куда девать глаза.
Снова вошел слуга с Нессимовой униформой, тщательно вычищенной и отутюженной; Нессим встал, с кривой ухмылкой, извинился и вышел. Мы остались одни. Жюстин налила себе еще один стакан вина. Затем, неся его ко рту, вдруг подмигнула мне и сказала: «Шила-то в мешке не утаишь?»
«И давно тебя тут заперли?»
«Не говори об этом».
«Но неужели нельзя никак…»
«Он вот сумел найти лазейку. Хоть какую-то. А я — нет. Пей, Дарли, пей свое вино».
Я молча выпил, через пару минут вернулся Нессим в униформе, готовый ехать. Мы, не сговариваясь, встали, слуга взял канделябр и тем же церемонным траурным маршем провел нас назад на балкон. Пока нас не было, в углу расстелили ковры, расставили диваны и маленькие столики — свечи, десерт, курительные принадлежности. Ночь стояла тихая, теплая. И свечи горели ровно. Где-то далеко, во тьме, на невидимом огромном озере, отходили ко сну птичьи стаи. Нессим торопливо распрощался, и стук копыт по дороге к броду, ясно различимый поначалу, быстро стих, слившись с плотной ночной тишиной. Я повернул голову и глянул на Жюстин. Она протянула ко мне руки, запястьями вперед, на лице — гримаса. Запястья вместе, словно в невидимых наручниках. Воображаемые кандалы она демонстрировала мне довольно долго, потом уронила руки на колени и внезапно, быстрая, как змея, скользнула к моему дивану и села на пол у меня в ногах. И сказала обиженно и горько: «Ну почему все так, Дарли? Почему все так?» Звенящая, мучительная нота в голосе, и речь шла словно бы и не о ее судьбе, не о прошлом ее, настоящем и будущем, но о скрипучей механике бытия. Отблеск ее прежней красоты вспыхнул было эхом и обжег меня. Но запах! Она была так близко, и ни дуновения во дворе — запах пролитых духов был невыносим, едва ли не до тошноты.