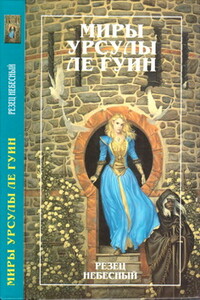Кладезь бездны - страница 51
Абу-аль-Хайджу пришлось успокаивать недолго: аль-Мамун, конечно, отменил несправедливый приказ о лишении его воинов ежемесячных выплат. Ну и долго превозносил их мужество, завершив свои речи торжественной клятвой по достоинству оценить верность и храбрость бедуинов по возвращении из похода – а то кому же он, эмир верующих, доверит охранять свой харим и свою столицу, как не ибн Хамдану по прозвищу Герой!
Задыхающийся от злости Тарик слушал все это из соседней комнаты – но молчал. Отпустив подуспокоившегося шейха таглибитов, аль-Мамун пошел туда, где сидел его командующий. Тарик трясущимися руками подносил ко рту медную чашку с шербетом – ярость колотила его так, что аж лед в чашке звенел.
– Скажи мне, о Тарик, – строго сказал аль-Мамун, – тебе приходилось хоть раз приходить в маджлис, сидеть там и уходить, не сделав говоривших с тобой смертельными врагами?
Расплескивая воду из чашки, нерегиль заорал в том смысле, что не поведет на сильного, умелого и коварного врага орду дикарей.
– Скажи мне еще, о Тарик, – не менее строго сказал аль-Мамун. – Разве верующие ашшариты – более дикари, чем те джунгары, которых ты привел в Хорасан ради сражения с Мубараком аль-Валидом?
К несчастью, нерегиль в это время как раз отпивал из чашки – услышав слова своего повелителя, он поперхнулся, закашлялся и заплевал все шербетом. А, отплевавшись, заорал:
– Джунгары?! Дикари?! Джунгары – это благородные, доблестные, умеющие держать свое слово люди! Знающие, что такое честь! Приказ! Посмертная слава! Полная противоположность вашим бедуинам! Как ты можешь равнять джунгар и этих огрызков человеческого рода?!
Аль-Мамун плюнул, налил себе шербету, выпил и ушел совершать омовения к Магриб.[8] Совершив намаз, он поклялся себе, что закончит все дела до ночной молитвы, но незадолго до нее получил известие о бунте в войсках Абны.
И вот теперь он – после ночной молитвы – сидел в Большом дворе и читал донесение, написанное Тариком по поводу Опоры Престола и Скипетра Верности, то есть все той же Абны, которая на данный момент прыгала под Престолом, поддавая задом на манер необъезженной лошади.
– Справедливости, о халиф! – со двора приемов продолжали нестись вопли.
И угрозы:
– Предатель! Подлый предатель! Наши деды служили тебе верой и правдой, бледномордая тварь! Ты недостоин подносить нам дрова с пальмовой веревкой на шее!
Нерегиль сидел, сцепив руки под подбородком, и молча смотрел в одну точку.
Самым мрачным в маджлисе был Харсама ибн Айян – он, щурясь и кривясь, разглядывал в дрыгающемся свете ламп войсковые списки с перечислением имен каидов и назначенным отрядам жалованьем.
А самым радостным – молодой Тахир ибн аль-Хусайн. Тот аж светился от удовольствия, то и дело поглаживая маленькую черную бородку. Блестящими от перстней пальцами он перебирал звенья золотой цепи с большим бирюзовым медальоном и не скрывал злорадства.
С нерегилем они поссорились насмерть еще два дня назад – джунгары из джунда Хативы сцепились с Тахировыми нишапурскими гвардейцами. Парсам было что припомнить джунгарам, и они припомнили. Тарик остановил беспорядки, приказав солдатам войсковой шурты связывать спина к спине по одному джунгару и одному парсу и кидать в реку. На втором десятке отсчет утопленников прекратился – вместе с драками. Затем в дело вмешался аль-Мамун.
«Я тебе не халиф Аммар! – кричал он. – Я не потерплю бессудных убийств! Еще один такой приказ – и я сам кину тебя в реку!» На Тарика он наорал прямо в маджлисе. Нерегиля била крупная дрожь ярости, он кашлял, словно задыхался, но молчал. Справедливости ради аль-Мамун распек и Тахира. Однако самолюбие парса не исцелилось от нанесенных Тариком ран: говорили, что нишапурец аж кушать перестал от злости.
Еще злые языки болтали, что Тахир не может простить нерегилю пренебрежения его воинами при отборе в личную Тарикову гвардию. В войсковых реестрах гвардию называли Мутахаррик тулайа, Движущаяся, а те же злые языки припечатали ее Кафирской. Хотя, конечно, записанные в Движующуюся гвардию джунгары были правоверными – а на словах или истинно, Всевышний знает лучше. Но ни одного парса туда не попало, это точно. Из четырех тысяч «неверных» собственно кафирами были сумеречники, но их набрался только эскадрон-