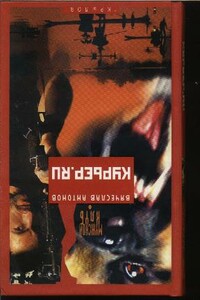Клинки енисейских кыргызов были известны на всем Востоке: «пробивают кожу носорога»— так говорили о них арабы. Сами кыргызы воинами были хоть куда — «зело свирепы и воисты»— писал московский хронограф. Был таким и нынешний хан Ишинэ — не степной разбойничий царек, а наследник великих дел и царств. Всю свою молодость резался он, точно волк, то с русскими на севере, то с урянхами в Саянах, вновь и вновь приводил к покорности кыштымов-данников: северных качинцев, степных сагайцев, таинственных саянских тофаларов. Не раз бывал он под Красноярском, и невзятая эта крепость до сих пор торчала занозой, преграждая выход с гор на простор Енисейской лесостепи. Смети, сожги ее — и покатится степная лава до самого Енисейска, а там поднимутся эвенки, подойдут буряты по Ангаре, заволнуются якуты на Лене. И это лишь начало, за которым двинутся настоящие силы — ударят джунгары из Семиречья, перейдут Амур Маньчжуры с китайцами. Объединись сибирские народы — ив месяц вырежут по Сибири «орысов», останется у них Тюмень с Тобольском, а то и вовсе покатятся за Уральский камень, откуда принес их черный бог Эрлик-хан. И третьего не дано — либо мы их, либо они нас…
Так думал кыргызский хан, покачивая в руках маленький кубок, расширяющийся узорными лепестками-гранями. Старое потемневшее серебро, усеянное пылью веков, переливалось рыжими бликами горящего очага. На гранях отчеканены тигры и олени, а основание обведено круглой уйгурской вязью: «Держа сей сверкающий кубок, я, Толыт, познал счастье». Кем был тот Толыт, хану неведомо — древен был кубок, еще тех времен, когда кыргызы, перейдя Саяны и разгромив уйгуров-манихеев, двести лет господствовали над всей Центральной Азией. Восемьсот лет прошло с тех пор, много воды утекло в холодном Енисее. У хана было круглое лицо с черной седеющей бородкой, тяжелые плечи и кривые ноги степного воина, хотя тело его понемногу оплывало — сам в битвы не ходил, а пища была сладкой, жены покорными. Но глаза по-прежнему глядели остро. Хоть черные они, а не желтые, как у волка, но время от времени хищно, по-волчьи впивались в глаза китайского господина Ли Ван Вэя, сидящего напротив на шерстяном петельчатом ковре. У китайца глаза были узкими и веселыми, а в улыбке никакой хитрости. Зачем ему хитрить — он открыт для правды, спрашивайте, о чем хотите!
— Прошу извинить моих воинов за непочтительность, господин Ли Ван Вэй, — прижав руку к груди, вежливо извинился хан.
— Вам не за что извиняться, достопочтимый хан. То была лишь необходимая предосторожность.
— Именно она заставляет меня спросить, что именно посол великой Империи делал на водах Кима, передвигаясь в столь утлом суденышке? — все так же вежливо спросил Ишинэ.
— Сие есть прискорбное следствие нападения степных разбойников на мирных китайских подданных, стремившихся доставить в ваши пределы лучший чай, что производят плантации Цзяннани и Хебэя.
— Стыд и позор для нас! Считайте, что головы разбойников уже торчат на позорных шестах.
Китаец с легким поклоном принял любезность хана.
— Однако же, — продолжил тот, — не могу не признаться, что ваше появление на грузовом судне еще менее объяснимо для меня. Согласно нашему соизволению, вы же… — Хан пытался вспомнить, каков был предлог для задержки китайца в пределах Хоорая.
— Совершенно верно, изучал целебные свойства соленого озера, пока кочующий там род, давший мне пристанище, не подвергся злодейскому набегу горных урянхов, поддержанных жестокими мунгалами. Увидев страдания ваших бедных соотечественников, я не мог не оказать им посильной поддержки.
— Да, Ханза-чазоол мне докладывал. Правда, он считал, что вы погибли, прикрывая отход.