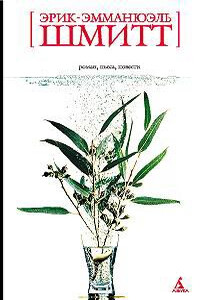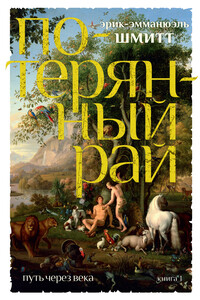Автор-трагик, напротив, сосредоточивает внимание на величии человека, на человеческом достоинстве. Главный персонаж предстает героем, даже раненный, униженный, умирающий, он высоко держит голову, взгляд его ясен, он твердо стоит на ногах. Подобно великому Людвигу, трагический персонаж вызывает восхищение.
Бетховен доказал мне, что можно петь, будучи загнанным в тупик, излучая оптимизм и сознавая трагизм положения. Ведь когда человек предстает во тьме, в оковах, не ведая своей участи, это является разоблачением зла, жестокости, страдания, отражает его превосходство над обстоятельствами, его мужество.
Я осознал глупость прежних моих предубеждений, когда недавно, восседая на балконе оперного театра, полагал, что невозможно создать удачную оперу о добродетели.
Во Франции без конца повторяют сентенцию: «Искусство не делается с добрыми чувствами». Забавная острота Андре Жида, к несчастью, забронзовела, став литературным критерием. У маркизиков (писак школы маркиза де Сада), подчинившихся диктату цинизма или внешнего нигилизма, этот афоризм превратился в тезис: «Из добрых чувств рождается дурная литература». Так что прощайте, Корнель, Гёте, Руссо, Диккенс и все остальные, — удар нанес Андре Жид, воинствующий интеллектуал! Долой Баха! Farewell[3], Бетховен! Любители рисованных для симметрии фальшокон заходят еще дальше, делая вывод, что «дурные чувства ведут к улучшению литературы», будто чувства, каковы бы они ни были, даруют способность написать стоящую фразу, выстроить историю, гарантируют связь между мыслью и ее выражением. Неужто наше время настолько переполнилось разочарованием, что обычная острота превращается в кредо, расставляет ориентиры. Это катастрофа!.. Бедный Жид, которому приписали эту глупость, ибо она основана не на остроумной шутке интеллигентного человека, но на той трактовке, которую ей придали недоумки.
И до «Фиделио» я также к ним принадлежал, ведь в Цюрихскую оперу я заявился с грузом предрассудков.
Мощь этого произведения позволила мне на мгновение освободиться от этой тяжести, отстраниться.
И все же я забываю о своем цюрихском опыте, свернув носовой платок, прячу его в карман, поближе к сердцу. Мне кажется, то, что я испытал нынче вечером, если и не зазорно, то, по крайней мере, старомодно, в воздухе веют совсем иные ветры. Я не смею идти в ногу со временем, не смею и изменить свой взгляд на мир.
Первое рекомендовано мне собственным конформизмом.
Но в глубине души, в воображении, чувствах, в памяти остается более глубокий след. И он в одиночку вершит свою работу.
Без меня. Или без того болтливого, зависимого от общественного мнения, подверженного влияниям существа, которое я именую «я»…
Следовательно, как писатель я подвергнусь нападкам за пристрастие к «добрым чувствам».
К счастью, благодаря Бетховену и этому чудесному цюрихскому «Фиделио» я смогу — нет, не противостоять, — но, пожав, плечами, продолжить свой путь.
* * *
Я слишком спешу.
Материя, эта бунтовщица, сопротивляется… Превратности судьбы, встречи, прошедшие десятилетия, размышления, музыка — все подчинено своему собственному ритму. Истина неподвластна времени. Через несколько лет вдруг понимаешь, что какая-то встреча была «решающей»; первый раз оказывается действительно первым, когда вызывает какое-то изменение, а это может случиться и на сотый раз… Наше существование выстраивается во времени, духовная жизнь — нет.
Подвох автобиографического повествования в том, что фрагментарным, разрозненным реалиям навязывается определенный порядок: временной, повествовательный или логический, — и с этого момента уже не в счет хрупкие, вневременные, сложноскрученные и легкорвущиеся нити, из которых соткано полотно судьбы.
Бетховен исчез из моей повседневной жизни. Во всяком случае, из обыденного сознания. Я больше не слушал его музыку, не ссылался на него, думать о нем забыл.
Так что, войдя в датскую Новую глиптотеку Карлсберга, где в одном из залов были представлены маски Бетховена и его скульптурные портреты, я, придавленный грузом своих сорока лет, застыл в изумлении.
Произошло это в два этапа.