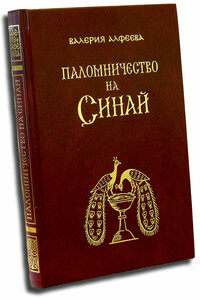Известный правозащитник Пинхас Абрамович Подрабинек перед началом нашей голодовки сокрушался, что нельзя организовать голодовку где-нибудь в больнице, где мы были бы под круглосуточным контролем. Оба его сына — Александр и Кирилл — в это время находились в тюрьме за диссидентскую деятельность, а Пинхас Абрамович волновался, не обманем ли мы советскую власть и родной КГБ, уплетая от тех потихоньку.
Приехав к нам через неделю после начала моей голодовки, Подрабинек оглядел меня и удовлетворенно констатировал: «Даже нос похудел». А я успокоил его — если во время длительной голодовки немного есть, — начнется дистрофия. Выжить дней 50–70 можно, если не есть совсем, а только пить воду. Так что голодать по-честному — в наших интересах.
Эксперимент, на какой стадии голодовки обычный человек умирает, поставили ирландские террористы. Через несколько лет после нашей они провели цепь голодовок в английской тюрьме, требуя статуса политзаключенных. Маргарет Тэтчер, человек не сентиментальный, не уступила и дала им всем умереть. Террористы — ребята крутые — тоже не отступали. Первый из них умер на 56-й день, самый стойкий — около 70-го. Похоже, ресурсов мистера X никто из них не имел. Догадываюсь, что толстяки не идут в террористы. Они борются за мир.
Однажды, кажется на пятый день голодовки, КГБ нашу квартиру блокировал. В этот день у нас должен был собраться шахматный клуб имени меня. Был у отказников и такой. Почему всех к нам пускали, а шахматистов не пустили — не знаю. Людей задержали у входа в наш дом и отвезли в отделение милиции. Я узнал об этом в тот же вечер из интервью «Голосу Америки», в котором мой друг, ученый-генетик Валерий Сойфер, рассказал о злоключениях шахматистов-отказников.
Длительная голодовка, замечу я, вещь противная. Очень скоро человека покидают силы. У меня стало хуже с глазами. Я не мог не только читать, но и смотреть телевизор. Тоска.
Первые дней 15 я терял по килограмму в день. Потом наступила следующая стадия голодания — я худел лишь грамм по сто в день. Я понял, почему сегодняшние евреи не похожи на евреев со старых гравюр. Те плохо питались и были очень худы. Я стал походить на старые гравюры. Руки и ноги выглядели, как шлагбаумы. Зато я стал легко садиться в позу лотоса. Йоги, я вспомнил, тоже почти не едят.
Наша голодовка — событие, в те годы еще необычное, — судя по передачам зарубежных радиостанций, имела значительный резонанс. Была реакция на нее и на шахматной Олимпиаде. Годы позже, на один из турниров Виктор Корчной привез мне майку с аппликацией BORIS GULKO, в которой он участвовал в пресс-конференции, организованной по нашему поводу. В такой же майке вышел на матч с советской командой голландский гроссмейстер Джон Ван дер Вил (John Van der Wiel).
И все же, могла ли такая голодовка сдвинуть камень, которым нас придавило анонимное начальство? Мы об этом не узнаем, потому что на 20-й день моей голодовки, 10 ноября, произошло событие, резко изменившее ход советской политической жизни. Умер Брежнев.
Склеротичный режим Брежнева поддавался давлению, а пришедший на смену Брежневу председатель КГБ Юрий Андропов был более крепок. Не физически — генсеком он стал, уже будучи смертельно больным, — а верностью доктрине тоталитаризма.
Отношения с Америкой стали стремительно ухудшаться, особенно после того, как советские сбили южнокорейский пассажирский самолет и настаивали, что сделали это по праву.
В один из первых дней после смены советского лидера к нам приехал Толя Волович, ученый-химик и чемпион Москвы по шахматам 1967 года, со своим другом, прекрасным актером Андреем Мягковым. Толя также был отказником и присоединился к нашей голодовке в один из ее первых дней. Держал он голодовку в своей квартире.
Мы обсуждали: что делать с нашей голодовкой в новых условиях. Мягков резонно заметил, что мир, занятый сменой советской политики при новом лидере, о нас забыл, и нужно воспользоваться поводом — смертью Брежнева — и заявить о прекращении голодовки. Но что делать с двадцатью днями, которые я продержался? Они мне казались неким капиталом, мне было жалко его терять, и мы решили голодовку продолжить.