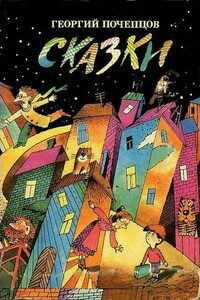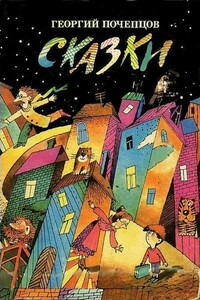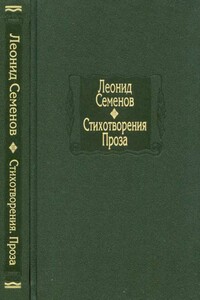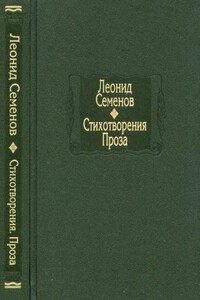[30].
В результате свои сильные тексты оказались вытесненными на обочину читательского интереса текстами чужими, поскольку они несли новизну для закрытого советского мира, жившего достаточно консервативно.
Власть и КГБ видели позитив творческой интеллигенции только в том, чтобы сделать «автоматчиками партии» в терминологии Хрущева. Это было несомненным сужением творческих интересов, которые становились «обслугой» вместо почетного статуса «творцов» иных миров.
В этом плане СССР скорее потерял творческую интеллигенцию, вместо того чтобы задействовать ее свободно и потому более эффективно. Ей не дали развернуть отдельный мир досуга и развлечений, оторвав его от прямой пропаганды и цитирования идеологии.
Мир вне СССР поступил по-другому: «Западная элита задействовала на своей стороне даже творческих людей, настроенных против капитализма, например, рок-музыкантов. Наша бюрократия умудрилась оттолкнуть именно тех, кто хотел и мог обеспечить Советскому Союзу идейную и культурную конкурентоспособность. Ефремов, Любимов, Зимин, коммунарское движение в педагогике — стандартный сюжет. И в нем — приговор системе, прозвучавший задолго до падения цен на нефть» [Там же].
В советской ситуации все было наоборот. Ефремова, например, преследовали даже после смерти: был и обыск в квартире, и заведено дело, причем причины неясны и сегодня. Как пишут исследователи: «Среди многих тысяч просмотренных нами надзорных производств спецотдела Прокуратуры СССР это — единственное, из которого неясно, на предмет чего оно заведено. Ключевое для большинства дел, ведшихся органами госбезопасности, слово „антисоветская” здесь не встречается ни разу. К тому же, для дел такого рода смерть подозреваемого являлась формальной причиной для прекращения дела, а не для его начала. Представляется, что версию о подозрении Ефремова в антисоветской пропаганде можно решительно исключить. Слово „шпионаж” в деле тоже отсутствует. Надо отметить, что в поле зрения этого отдела Прокуратуры крупные, серьезные шпионские дела вообще не попадали, ими ведали иные структуры. Мы видели среди его производств несколько дел по шпионажу: все это были дела незначительные, явно мелкие и случайные, и в них подозрение в шпионаже значилось как мотив обвинения. То есть мы не имеем оснований предполагать, что следствия по шпионажу велись на таком уровне секретности, что не назывались прямым текстом в предназначавшихся для прокуратуры документах. Если бы Ефремова действительно всерьез подозревали в сотрудничестве с иностранными разведками, то либо в деле имелось бы указание на такой состав преступления, либо такого дела в архиве спецотдела вовсе бы не было. И опять же, за смертью „объекта” дело должны были производством прекратить» [31].
Жена Ефремова вспоминала и цензурные мытарства: «Как советская власть относилась… В Комарово и то с трудом дали путевку. И в Дубулты — один раз, и тоже с оговорками. Отношение Академии наук?… Трудно было даже получить что положено. Когда Иван Антонович лежал в больнице, даже там ставили „жучки”. А после его смерти заявились с обыском. Человек пятнадцать пришло, все тщательнейшим образом пересмотрели, простукивали стены, просвечивали каким-то аппаратом. Я еще, помнится, подумала: вот был бы такой аппарат у Ивана Антоновича в экспедициях. Искали антисоветский вариант „Часа Быка”, а не было этого варианта. Сейчас уже понятно, что роман обо всей нашей технологической цивилизации написан. При издании собрания сочинений (а договор заключили только на два тома) они сидели с редактором „Молодой гвардии” Жемайтисом и правили все, что касается женской красоты. В журнальном издании „Таис Афинской” Ивану Антоновичу пришлось даже снять три главы, чтобы не вносить правки. Потом я много лет боролась против замены в „Таис”. В сцене, где героиня беседует с философом о поэзии, философ говорит, что „поэт всегда против”, а они заменяли на „поэт всегда впереди”. „Час Быка” заказал Ивану Антоновичу журнал „Октябрь”. Потом роман долго рассматривали. Иван Антонович позвонил, спросил: „Ну, что, не подошло?… Ну так я вас предупреждал…”»