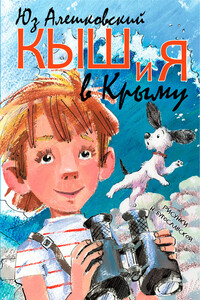Не оборачиваюсь. Делаю свой коронный пассаж левой с вывихом плеча. Увожу лопатник с фанерой Круппа из плаща с усиками и челочкой. Перепулить его, однако, не спешу. Держу подмышкой. Пиджачишко, как живой и верный партнер, притыривает лопатник. «Спасибо, — говорю, — тебе!» — а у урок толковище продолжается. Поливает все больше с усиками и челочкой. Поливает небезынтересно. — Мне бы, — говорит, — такого зама по мокрым делам, как Сталин, и я за, него, сукой мне быть, десять Гиммлеров отдам. Помните, урки, далеко пойдет этот человек. Но ваш фюрер и ему приделает заячьи уши. Он сам своих генералов перешпокает и переведет, а партайгеноссен перемикстурит в лагерях и гестапо. У него Гестапо Лубянкой называется. Наш человек переслал оттуда чертежи советских концлагерей. Большевикам нельзя отказать в некоторой гениальности, но дело уничтожения ублюдков мы поставим на немецкую ногу… Нам, вождям, господа, жизнь дается всего один раз, и прожить ее бедно, но честно мучительно трудно!.. — это было последнее, что я услышал, линяя. Слинял. Костюм и пальто вели себя при этом просто прекрасно. Понимание ситуации и преданность — восхитительные и братские. Перепулил я лопатник с фанерой, три косых долларов и фунтов в женском сортире в бачок. Прочитал на стене стишки Уолтера Маяковского «Партия — рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак. Вчера, товарищи, здесь поссал я, и извините, пожалуй№та, если что не так.» Перепулил я лопатничек фюрера и возвратился. А на меня сходу бросается жирная свинья Геринг и целует, как родственничка.
— Спасибо, кореш! В филармонии все так прелестно получилось! Благодаря твоей записке от меня насовсем ушла омерзительная любовница. У нее были больные придатки, клитор жесткий как курок «Парабеллума» и характер — пакость. Спасибо! Мы, немцы — нация любовников, а не Гегелей и Кантаровичей.
А в записке, которую я тогда послал свинье с тем, чтобы его дама ее прочитала, было написано, Коля, следующее: «Друг! Неужели тебе нельзя верить? Ты же клялся, что нигде больше не покажешься с этой тухлятиной! Жду тебя в борделе. Там хо-ро-шо!»
— Спасибо, кореш! Вступай в нашу партию! — предлагает свинья, и просекаю я, что и у него, и у того, что с усиками, и у остальных рыла сплошь перелицованные, Просекаю изнанку вонючую в ихних речугах и манерах.
— Была бы, — говорю уклончиво Герингу, — партия, а члены найдутся у народа. Вступить никогда не поздно.
— Да здравствует партия! — хипежит с усиками и тоже руку мне жмет. Говорит, что я тогда героически ушел из зала, продемонстрировав отвращение немецкой души к модернистско-марксистской заразе в музыке, и, если он, Гитлер, возьмет власть в свои руки, то меня сейчас же утвердят директором филармонии и начглавреперткома. Ибо, — говорит, — что-то мне в тебе нравится, но что именно, никак не соображу. Лицо твое — арийское. Ты, по-моему, астрологией занимаешься?
— Нет, — отвечаю, — я всего-навсего международный, гастролирующий из страны в страну урка, то-есть гангстер. Упираться не желаю принципиально.
— Как так «упираться»? — не понял фюрер.
— Работать, — говорю, — не желаю, — и поясняю по его просьбе, что в гробу я лично видал строительство как капитализма, так и социализма, потому что все это вместе взятое есть ложный путь человечества и самоубийственный технический прогресс с постепенной смертностью всего живого, воздуха, рек, морей и джунглей. Я к этому своих рук не приложу. Я, — говорю, — беру лишнее у того, кто заелся. И посему безобиден. Мечтаю стать фермером в Антарктиде, где партий пока никаких нет.
— Это — по-нашински. Это — по-вагнеровски! Но ты, Фан Фаный, ограниченный человек. Ты еще не припер к национал-социализму. Мы, фашисты, твою философию протеста одиночки сделаем философией всех немцев, философией Новой Германии. Мы отныкаем лишнее у еврейской плутократии, охомутаем большевистскую Россию и перетрясем фамильные сундуки выжившей из ума Европы. Мы, арийцы, погуляем по буфету, а быдло пускай поупирается. Ты в России-то бывал? — спрашивает фюрер и еще ставит мне кружку
— Бывал, — говорю, — не раз.