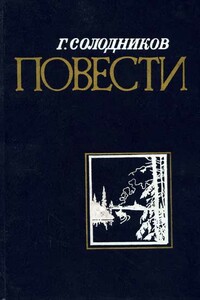— Федя, сколько времени?
— Давай, Генка, трави, — сквозь зубы говорит он. — Трави без остановки.
Что я только ему не рассказывал в ту жуткую черную ночь! Книги, и фильмы, и всю свою жизнь, как она есть, без вранья, и даже то, как я познакомился с Владленой и почему оказался здесь. Мы все-таки вышли на какую-то дорогу и долго шли по ней, а потом опять сбились, пересекли луг и угодили на бесконечное картофельное поле. Спотыкались в глубоких бороздах, путались в ботве, а я все говорил и говорил, пока вдруг Федор не остановил меня:
— Погоди, Генка. Слушай, или это в ушах у меня шумит?..
Я напряженно прислушиваюсь и наконец улавливаю далекий собачий лай.
— Собаки, Федя! Собаки лают!..
— Да… да… — тихо и безразлично говорит Федор. — Это хорошо. Брусняты, значит…
— Ура! — кричу я. — Тут чуть-чуть, Федя! Километра три…
— Иди, Генка. Я сейчас. Передохну только…
И он медленно опускается в ботву. Я подхватываю его, пытаюсь приподнять, но он стал куда тяжелее, чем обычно.
Я долго уговариваю его, тяну, волоку, от страха не понимая, что он потерял сознание. Потом оставляю эти бесплодные попытки и сажусь рядом, тупо глядя на него:
— Федя! Федь, ты слышишь меня?..
Он не отвечает. Лежит в борозде, вытянувшись во всю длину. Может быть?.. От страха я сразу покрываюсь потом, осторожно приникаю к нему и слушаю, слушаю…
Дышит!..
Лихорадочно срываю с себя куртку, свитер. Курткой накрываю его до подбородка, свитер подсовываю под голову. Это все, что я могу для него сделать. Нет, не все: я должен привести людей. И я, задыхаясь и путаясь в ботве, бегу через бесконечное поле на собачий лай, а впереди по-прежнему не видно ни зги. Я спотыкаюсь о борозды, падаю и снова бегу, пока не натыкаюсь на плетень.
Здесь я останавливаюсь. Пот застилает глаза, в уши часто и тупо тукает сердце, и я уже не слышу никакого собачьего лая. В глазах какая-то пелена и яркие точки, и ни черта не видно. Потом различаю что-то темное, соображаю, что это дом, и мешком переваливаюсь через плетень.
Почему-то я не стучу в этот дом, а пересекаю двор и выхожу на улицу. Я выглядываю огонек, но избы безглазо смотрят на пустынную улицу. И тут я замечаю новый, в три окна дом и дряхлую березу у крыльца. Я прятался под нею, когда Ане открывали дверь. Стучу кулаком. Грохот отдается по всей улице, но я все равно стучу. Наконец старческий глухой голос спрашивает:
— Кто там?
— Несчастье! — кричу я. — Человеку плохо! Мы испытатели!
— Какие испытатели?
— Ну, машину испытываем! Рядом с вами, через речку…
И вдруг слышу какой-то разговор.
Дверь распахивается:
— Ты, Гена?
На пороге Аня. Белая рубашка, плечи прикрыты платком. За нею — костлявый старик в кальсонах и какая-то женщина.
— С Федором плохо. Лежит на поле, без сознания.
— Входи. Я оденусь.
Вхожу в избу. Старик зажигает свет и остается стоять, во все глаза глядя на меня. Из-за занавески пялится женщина. Аня уходит за эту занавеску.
— Рассказывай.
Сажусь на лавку и начинаю рассказывать. Дед буравит меня глазищами. За занавеской что-то бормочет женщина.
— Ну, все! Замолчали! — резко обрывает ее Аня.
Она выходит уже в брюках и свитере, деловито поправляя волосы:
— Ты почему в одной рубашке?
— Федору оставил.
— С ума сойти! Деда, дай кожушок.
Дед покорно приносит что-то вроде овчинного пиджака. Я надеваю его, вслед за Аней иду к дверям.
— Анечка! — растерянно кричит женщина. — Ночь ведь!..
— Ладно! — сердито говорит Аня. — Не одна ведь иду.
Мы оказываемся на улице. Старик и женщина смотрят из дверей. Кажется, женщина плачет.
— Не дотащим, — соображаю я наконец. — Он тяжелый.
— Да? — Она сердито покусывает нижнюю губку. — Пошли.
— Куда?
— Пошли, пошли, Лешка сегодня дома.
Мы поднимаем Лешку — того самого, с могучей челюстью. Лешка бежит за Костей, и мы, стуком и криками разбудив полдеревни, уходим в бескрайнее картофельное поле. Бродим, кричим, зовем, и наконец Костя натыкается на Федора. Он все так же лежит в борозде, не слышит и не видит, но сердце у него все-таки бьется.
Ребята несут Федора в деревню, а я второй раз рассказываю, что случилось. У околицы они осторожно кладут Федора, закуривают, и Щелкунчик у меня спрашивает: