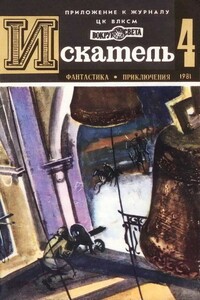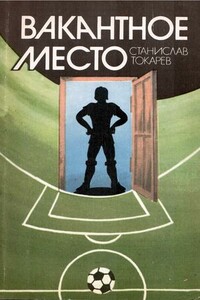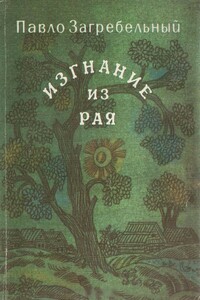— Верно про тебя говорят, что запрезирала коллектив! Артистка! Из погорелого театра!
— Ну, иди, доноси на меня, капай! — закричала зло Томка.
— Не стану я капать! — расплакалась Светка. — Не доносчица я! А ты знаешь кто? Предательница! Змея! Подколодная! Я бы убила тебя, только вон ты какая здоровущая!
Ревя в голос, почесала к палатке. А Томка осталась стоять в чаще, и бутылка оттягивала карман.
Кого она предала? Девчонок — бедных белок в колесе? Бегут безвыходно, от всего на свете отгороженные, а подломятся ножки, их и выбросят — ни с чем. Семёна предала? Да он первый и выбросит, ему начхать на «своих девонек», лишь бы самому отличиться и урвать…
Была не была. Томка оббила об осиновый сук сургуч с горлышка, вытащила зубами синтетическую пробку и отхлебнула. Горько-сладкое — мерзкое. Размахнулась, как гранатой, и бутылка, оставляя за собой веер тёмных брызг, канула в снег.
Семён Павлович стоял на стартовой поляне в кругу других тренеров и авторитетно высказывался, покачиваясь с каблука на носок, руки в карманы.
— Что тебе, Лукашёва? Что же ты, мать моя, разгуливаешь? Мазаться пора. Уж не номер ли опять посеяла, горюшко? — Всё это он говорил нарочито громко и ласково-назидательно, давая собеседникам понять многотрудность воспитательной работы с современной молодёжью.
— Семён Павлыч, — неожиданно для себя проныла Томка, — я не могу идти, я ногу натёрла.
— Горе ты луковое. Пойдём, покажешь, где. Сейчас мы зелёночкой и пластырь наклеим. Из-за такого пустяка нос повесила!
Но Томка, вдруг исполнясь презрением к себе, — какой была, такой осталась, батрачка бессловесная! — напряглась, поджалась и очертя голову выпалила:
— Сами мажьтесь зелёнкой. Я не выйду на старт.
— Это что же? — понизил голос Теренин, отвесил сырую губу. — Кто же это тебя подбил?
Он потеснил Томку подальше от общественности.
— Не проспалась?.. Постой… — принюхался. — Портвешок? С ним?
— С вами.
— Ну, всё! Прощайся с мастерским значком! И с комсомольским! Хана тебе, Лукашёва!
Томка вызывающе улыбнулась:
— Какие у вас, Семён Павлыч, выражения, стыдно слушать.
— Пошла прочь. — Он заступил ей дорогу. — Погоди, погоди, погоди! Много выпила-то? Да я вижу, что самую чуть! Для куража! Это-то никто не знает, это умрёт промеж нас с тобой! Пробежишь за милую душу, боже мой!
Лыжным ботинком она отвела с пути его подбитый мехом сапог.
— Стой! Себя не жалеешь, меня пожалей, старика! Сколько я для тебя сделал, а ты за что меня под монастырь? Я же человек, у меня семья! «Москвича» мечтал взять для сына, улыбнётся теперь «Москвич»! Э-эх…
И кинулся разыскивать запасную — Данилову. Но вернулся.
— Хахалю твоему, учти, тоже хана. Это тебе Теренин говорит.
— Тронете… — Томка тряхнула гривой, точно пламя взметнулось: — Вам не жить.
За стеной вопил магнитофон: «Жил да был чёрный кот за углом, и кота ненавидел весь дом…» В соседнем номере жили Козодой, первый номер эстафетной команды, и молодой Рыбаков, номер третий.
Музыка раздражала Ивана.
Вообще-то он любил радио. С тех давних пор, как однажды пришлось ему шлёпать на лыжах в райцентр, чтобы обменять кругляши мороженого молока у эвакуированных на какую-нито одежонку для младших братьев и сестры. И у тётки Матрёны, жившей при исполкоме, где служила она техничкой, увидел на стене картонную тарелку репродуктора. Дома-то, в глухом углу, радио имелось только в сельсовете, туда бабы бегали слушать сводки Информбюро. На городской же квартире Матрёна воткнула штепсель в дырки, и комната огласилась музыкой: бывали, оказывается, передачи специально для детей.
Из детей Иван давно вырос: взрослый мужик, четырнадцать сравнялось. У матери на молочной ферме работал водовозом, летом косил — ему трудодни, палочки писали. Бабам помогал на лесоповале — тоже кусок в семью. Но у тётки перед репродуктором он сел тогда и сидел, как маленький, зачарованный сказкой про табакерку, в которой жили мальчики-колокольчики и дядьки-молоточки, их погонялы.
На другой день тётка удачно обменяла девичью кофтёнку, почти ненадёванную, на две пары чулок в резинку, а главное, на пару вполне крепких башмаков, впору Федьке, а если набить пакли в мыски, то и Лёшеньке сгодятся, который, когда растает снег, должен был бы сидеть на печи.