Надя, не меняя положения, тихо и твердо сказала, как бы самой себе:
— Больше об этом никогда не говори мне. Понял? Никогда!
— Ка-ак не говори! — Трофим бешено подпрыгнул и топнул сапогом. С кулаками он снова подскочил к Наде — та отшатнулась к стене, — но, не донеся до нее кулаки, Трофим разжал их и обеими руками вцепился в свой влажный растрепавшийся чуб, заметался по комнате. — Боже ж ты мой, навязалась на мою шею! Боже…
Надя порывисто привстала на кровати. Умоляюще глядя Трофиму в глаза, она попросила:
— Труша, родной, отпусти меня за ради Христа!.. Отпусти, не мучь. И себя не мучь, и меня. Я уйду. Отпусти.
Трофим, пристыв к полу, вытаращил на нее глаза и руки уронил.
— Ты… ты это… Лежи, лежи! — всполошился он. — Ишь ты, замучилась! Все никак дурь свою не выбросишь! Надумала! А то под замок посажу. Придет время… лежи! — С языка едва не сорвалось то, что в этот миг внезапно подумал: «Придет время, — может быть, сам выгоню». Он достал из кармана портсигар, закурил — пока ловил в портсигаре папиросы, сломал две штуки — и, хлопнув дверью, вышел.
На крыльце Трофим затянулся, постоял у перил и, облокотясь, выцедил папиросу без передышки. Через двор к колодцу Степан вел под уздцы рысака. Чуть косолапый, вычищенный до блеска пятилеток широко разбрасывал ноги, рвался из рук и, скалясь, выгибая шею, норовил поймать Степана за плечо. «У-у, зверюга! У, лодырь!» — покрикивал тот и, пыжась, всею силой тянул коня за повод книзу. Под навесом у тарантаса топтался Петр Васильевич. В громаднейшем черного сукна тулупе и черной шапке, он был похож на медведя. Собираясь в дальнюю дорогу, на станцию, в Филоново, он охорашивал сиденье, укладывал полость. Трофим, немного успокоенный, спустился по ступенькам и подошел к нему.
— Ныне, должно, вряд ли обернешься, — сказал он, выкатывая тарантас, — уже не рано.
— Знычт, вряд, да. Делов много. Заночевать придется.
— Там что… Насчет того сена, что на постоялом дворе… Все не отгрузили?
— Да все нет пока. Мошенники такие! Ждут, когда подмажешь.
Они еще перекинулись несколькими деловыми фразами, стараясь не встречаться взглядами, но каждый думал о другом. По голосу и лицу старика Трофим понял, что тот уже знает обо всем и, кажется, хочет по этому поводу сказать что-то серьезное. А Петр Васильевич, как только увидел Трофима на крыльце, тут же убедился, что то, что он слышал, правда.
Может, я, батя, поеду? — неожиданно вызвался Трофим.
Старик грузно повернулся к нему, откинув полу, и вприщур — по своей манере — оглядел его с ног до головы. «Так-так, сынок, дожили! Ничего себе… Бывало, от молодой жены силком не оторвешь, со двора не выгонишь, а то сам напросился. Вот они дела… семейные». Угрюмо спросил:
— Ты слыхал про новостишки-то? О чем народ болтает, знаешь?
Трофим смутился. Нагнувшись, попеременно подтянул голенища сапог, хотя это и не нужно было.
— Неладное болтают! Скверное! — Петр Васильевич подвигал челюстью, и окладистая борода его шевельнулась.
— О Надьке, что ли?
— Да.
— Пускай болтают! — Косой блуждающий взгляд Трофима пополз по необъятному подолу отцовского тулупа. — Мы с ней до свадьбы жили. Нашли диковину!
Старик шумно вздохнул, оживился:
— Нешто так? До свадьбы жили? Эк ведь!.. Ну, это, знычт, полбеды, ежели так. Пустяк! Я-то испугался. А это, знычт то ни токма… пустое! Уж тут было такое поднялось… Ну что ж, поезжай, коли хочешь. Только вот что. Первым долгом загляни к Власычу — знаешь? Мы как-то с тобой были у него, — сунь ему синенькую, а уж тогда с ним вместе… — и подробно рассказал о том, как и что нужно будет сделать на станции.
Через несколько минут Трофим, не жалея рысачьих сил, летел по обезлюдевшей, голой, чуть припорошенной снегом степи. Пусто и мертво на длинные десятки верст. Лишь блеклые придорожные кусты трав да грачи напоминали о недавнем великолепии степной жизни. Стаей переселяясь куда-то, грачи роились над тарантасом, обгоняли его и никак не могли обогнать.
Вечером, наспех управившись с делами, Трофим решил рассеять кручину. Хозяин пустующего по случаю войны трактира помог ему в этом.
Было уже около полуночи, когда Трофим, пьяный, разомлевший от духоты, сидел наедине с грудастой, на голову выше его девицей и угощал ее леденцами. В тесной, но уютной и чистенькой комнатке, обставленной по-городскому, было жарко натоплено. На столе в беспорядке громоздились консервные банки, рюмки, стаканы, всякая снедь, а посреди всего — ополовиненная бутылка водки. Трофим расслабленно покачивался на стуле, сплевывал под стол, туда же совал и окурки и с ненавистью озирал свою случайную напомаженную подругу. Ее ужимки и городские «финтифлюшки» Трофима раздражали. Он возненавидел ее с той минуты, когда она, поднимая рюмку, брезгливо сморщилась и сказала: «Фи, гадость! Я привыкла не такую пить!» — «Шваль какая! — подумал тогда Трофим, — Тоже мне!.. Корчит из себя…»

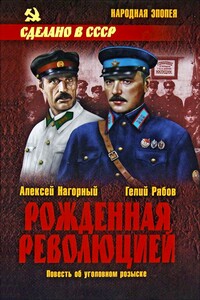


![Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/uploads/books/images/31/31a047e40eea0eb560aa962b14a8810c2890b073.jpg)



