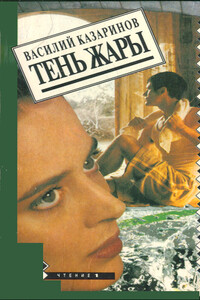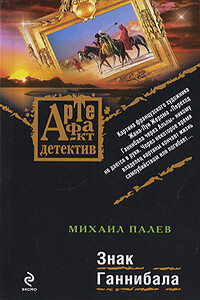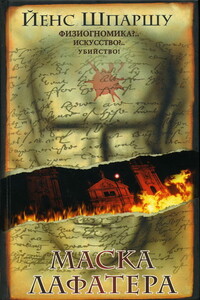— Ты устал, — сказала она, отодвигаясь вместе со стульчиком от доски. — Да, устал, я же вижу… Пойдем, я тебя покормлю. Ты ведь хочешь есть.
— Нет, — сказал я, с удивлением прислушиваясь к себе и не ощущая привычного инстинкта, хотя ведь и не помнил толком, когда ел в последний раз, и наверняка должен был проголодаться, а впрочем, пора мне привыкнуть к тому, что вблизи ее дыхания мои природные инстинкты растворялись без следа.
— Ну как хочешь, — сказала она. — Тогда давай ляжем спать.
— Давай, — сказал я, и мы, ведомые Шерлоком, прошли в комнату, я быстро разделся, а потом смотрел, как раздевается она и предстает передо мной в самом деле щупленькой девочкой, почти школьницей, с едва наметившимися женскими формами, но при этом тело ее дышало каким-то поразительно уютным, домашним, покойным теплом.
Она приблизилась, тепло стало еще плотнее, гуще, мягче. Я поцеловал ее в сухие губы. Она погладила меня по голове, легла на кровать, вытянулась солдатиком. Я лег рядом и, глядя в потолок, вдруг ни с того ни с сего пробормотал:
— Sic exio me…
— Что? — вздрогнула она и приподнялась на локте. — Опять латынь? А что это значит?
— Так освобождаюсь… А почему — опять? Ты сказала — опять латынь.
— Я давно заметила, когда ты рассказываешь о чем-то или о ком-то, то в речи твоей частенько мелькают латинские слова… Почему так?
— В них много мудрости и печали…
— Какой печали?
— Вселенской. Густой, тяжелой, муторной… Этот город погружен в вязкое вещество печали как в зыбучие пески, и кажется, ему уже не выбраться к солнцу, свету, ветру.
— А откуда она берется?
— Omne animal triste post coitum, — припомнил я вдруг.
— Что это?
— Да так… Мудрое наблюдение древнего философа. Переводится так: всякая тварь после соития печальна.
— Animal… Triste… Post… Coitum… — Она произносила каждое слово отдельно, словно дегустируя по глотку. — Да, латынь в самом деле поразительна. Торжественный, будто отлитый из благородной бронзы язык. Бронзы, бронзы, а не латуни… А Animal — это тварь?
— Ну, строго говоря, животное.
Она долго молчала, потом спросила:
— А кто я?
— Не знаю. Тот вид, к которому принадлежишь ты, мне пока не встречался.
Я провел ладонью по ее волосам. В сумраке маленькое, детское тело Александры отливало матовой белизной. Я ощутил наплыв странного чувства — невнятного, неопределенного, такого еще не было в моей природе.
Это ощущение шло по телу мягкой волной, его энергия комочком собралась в груди, отогревая меня.
Она обняла меня.
Меня бросило в холодный пот, хотя сотни раз за время работы наемным бабником бывал в такой ситуации.
Но теперь я просто не знал, что делать.
Прикрыл глаза и попытался вспомнить, как это бывает у людей, когда мужчина и женщина лежат в постели, обнимая друг друга.
И не вспомнил…
Она не видела, что со мной происходит, но конечно же все понимала и потому выскользнула из-под меня, мягко надавила на плечи, понуждая опуститься на спину, а потом перекинула ногу через мое бедро и замерла… Мне показалось, что я погружаюсь в забытие. То самое, которое впервые коснулось меня сумрачным утром, когда мы вернулись с Ласточкой после ночной прогулки на речном трамвайчике в мой дом. То самое, с которым я жил несколько лет — вплоть до того дня, когда мы расстались, когда Ласточка вдруг улетела в теплые края.
Мы обнялись, срослись, сплелись надолго, а потом, когда сознание медленно начало возвращаться ко мне, я с изумлением отметил, что не исчезло ощущение неостановимой печали, — напротив, возникло поразительно свежее, прозрачное, бодрое чувство, оно заполнило меня всего без остатка, и как бы в унисон моему чувству черный квадрат слепого окна осветился яркими брызгами гулко бухнувшей петарды, а потом колодец старого двора взорвался криками, смехом и безудержным весельем.
— Ну вот… — прошептала она, — Новый год. Говорят, как его встретишь, так и будешь жить дальше. Но как? И где?
— Как это — где? — расхохотался я. — В доме. Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить!
Она села и, обхватив руками колени, повернулась к окну, за которым орали что-то веселое, пили шампанское и швырялись друг в друга снежками.