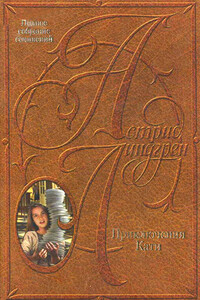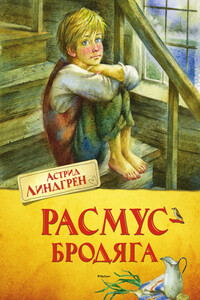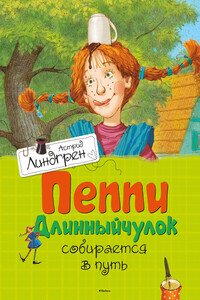И вот Дю Барри стоит перед семнадцатилетней королевой. Она ждет, до дрожи, столь желаемых ею слов. И она получает их:
— Сегодня в Versailles слишком много народа! — говорит Мария-Антуанетта.
И все явственно слышат, что, по ее мнению, по крайней мере одна здесь — лишняя.
Рада ли наконец Дю Барри? Надо надеяться, что это так. Потому что более обстоятельной беседы между этими дамами никогда не будет. Дю Барри остается сидеть на краю своей кровати и тихонько повторять про себя те единственные слова, которые ей удалось услышать из уст Марии-Антуанетты: «Сегодня в Versailles слишком много народа!»
И уже совсем скоро как одной, так и другой придется покинуть Versailles. Два года спустя Дю Барри будет бодрствовать у смертного одра короля. Оспа извела его старое отжившее тело, и он знает, что умрет. Дю Барри — единственная, кто есть у него в этом мире, единственная, кто заботится о нем, и он желал бы, чтобы она была рядом в его трудный час. Но он знает: на душе у него множество тяжких грехов. И не возлюбленной, а исповеднику нужно быть теперь при короле Франции. Дю Барри выходит из королевских покоев, священнослужитель входит… Шестнадцать скоротечных минут исповедуется Людовик XV в своих грехах — придворные стоят за дверью с часами в руках…
— Как он, должно быть, торопился, — говорит Ева, когда мы приходим в королевскую опочивальню, где имела место эта исповедь в грехах.
А потом, прелестная Мария-Антуанетта, потом наступает твой час! Теперь бразды правления берешь в свои прекрасные, жаждущие наслаждений расточительные ручки ты! О, как весело во дворцах Grand Trianon и Petit Trianon, и Людовик XVI так добр, непритязателен и все тебе дозволяет. Ты танцуешь все ночи напролет, а когда хочется перемен, возвращаешься в сладостную сельскую тишь в дальнем парке. Переодетая пастушкой, доишь надушенных коров в чаны из тончайшего севрского фарфора[131] и развлекаешься вместе с другими пастушками и пастушками.
Маленькая пастушка в стиле рококо играет со своим пастушком — ведь это всего лишь игра? Как случилось, что игра внезапно стала действительностью? Когда Мария-Антуанетта поняла, что у пастушка и пастушки два сердца, которые все на свете мили и все страны мира разлучить не в силах?
Возможно, не раньше, чем настали тяжелые времена. Она сидит здесь, в этом парке, октябрьским днем 1789 года.
Именно здесь застает ее тревожная весть, что парижская «чернь» движется маршем к Versailles. Изголодавшиеся люди идут сюда, чтобы увезти королевскую семью — «хлебопека, жену хлебопека и маленького сына хлебопека»[132], которые должны накормить их хлебом. И Мария-Антуанетта поднимается со скамьи и спешит в Versailles. Понимает ли она, что в последний раз видит свой Трианон?
Я устала, я хочу обратно в Париж. И наш автомобильчик мчится так быстро, во много раз быстрее, чем позолоченная карета королевы, что везла Марию-Антуанетту в темницу.
Устала я, устала, устала я, тоскую по кровати в отеле. Но мы надолго застреваем в пробке на Place de la Concorde… бывшей… Place de la… Revolution!
Я не вижу, не замечаю Луксорский обелиск. Я вижу узкий силуэт гильотины на фоне блеклого осеннего неба. Place de la Revolution в год террора — 1793!
Они все — женщины с крытых рынков — сидят в ожидании, желая увидеть, как отсекут голову ненавистной австриячке.
Они сидят там, и вяжут, и ждут, скоро ли она приедет? Да… Наконец-то, теперь уже слышен вожделенный грохот телеги палача, теперь они видят ее вдалеке возле Rue Royale[133]. Ха, вот едет Мария-Антуанетта! Вопль вырывается из их глоток, террор жаждет крови.
— Боже, сжалься надо мной. В моих глазах нет уже больше слез…
Нет, она не плачет, сидя в телеге… женщина в белом одеянии, такая прямая, такая неприступная, такая уже далекая!
Не бойся, Мария-Антуанетта! Скоро ты заснешь!
Не бойся!