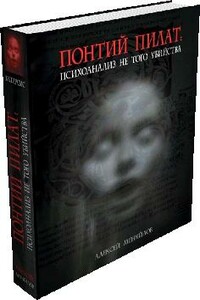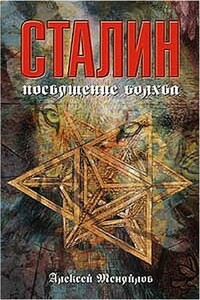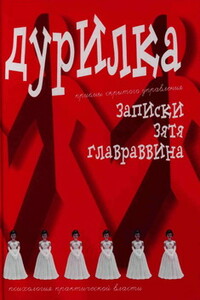Дороги и близки сердцу те люди, которым можно сказать: «А помнишь?»
Таня Кузминская-Берс
В. (Ласково снизу вверх заглядывая ему в глаза): А помнишь, как мы с тобой в первый раз встретились?
П.: Ещё бы! Конечно, помню!
В.: А в чём я была тогда одета, помнишь?
П.: М-м-м-м… Что-то очень красивое… В серый свитер, который так тебе идёт, и…
В.: Ничего ты не помнишь! На мне было вот это самое вишнёвое платье.
П.: Ах, да-да-да… Конечно! Я просто оговорился… Вот это вишнёвое платье. Очень хорошо помню.
В.: Помнишь! Так я тебе и поверила! А вот на тебе была коричневая рубашка. И синяя куртка.
П.: Разве? Ужас! Старая, заслуженная куртка. Заслуженней не придумаешь. Её надо было бы выкинуть ещё лет пять назад. Или десять.
В.: Не надо выкидывать! Давай её сохраним. Как память!
П. (Он попытался не улыбнуться, чтобы она не заметила, как ему приятно это слышать, и попытался поверить, что не улыбнуться ему удалось.): Хорошо, раз тебе так хочется… Вообще-то мне всё равно, в чём ты тогда была. Разве дело в одежде? Я ничего, кроме твоих глаз, не заметил. Ну, может быть, ещё нос.
В.: И что же ты там такого в них разглядел?
П.: Что тебе приятно на меня смотреть.
В.: Неужели?
П.: Да.
В.: А ещё что?
П.: Глаза твои сильнее всего меня поразили не при первой встрече, а при второй, когда в коридорчике столкнулись, тогда, на Хаббардовских курсах.
В.: А там что разглядел?
П.: Что ты допытываешься? Я тебе уже рассказывал!
В.: Ну и что? Мне приятно послушать. Почему бы тебе и не рассказать? Ты же — писатель!
П.: Писатель. А ты — читатель. Только читают-то не ушами. Рассказывать — это совсем другой дар. Рассказчика. А я — писатель. Пишу то есть. Писатели очень часто рассказывать и не умеют… А история нашей с тобой встречи (да и всего вслед за ней происшедшего!) удивительна настолько, что хоть сейчас — за пишущую машинку.
В.: Не надо! Только не сейчас!
П.: Нет сыйч-час!!.. А в коридорчике… В общем-то, поразило то же самое, что и в первый раз на семинаре. Странные, очень странные глаза. Глаза человека, попавшего в беду, и одновременно — ребёнка. Да, обиженного ребёнка, который почему-то ждёт помощи от меня… Знаешь, когда женщине за тридцать, а взгляд по-прежнему доверчиво-детский — это… Это… Словом, за этим стоит что-то особенное… Это — душа. Я сейчас, возможно, рационализирую, домысливаю причины моих чувств, но… Но взгляд, действительно, был детский, с поселившейся в нём болью; болью, явно вторгшейся извне. Ты тогда, на занятиях, шла не одна, женщину какую-то, помню, вперёд пропустила, всего-то и было у нас секунды две — что я мог тебе успеть сказать?..
В.: Ты мне сказал: здравствуй.
П.: Да? Значит, так и было. Да, только и было — мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что ты будешь моей… Во всяком случае, в постели.
В.: Какой ты, однако, опытный! С женщинами!
П.: Опытность здесь ни при чём. Случалось, считывал мысли у некоторых. Раз даже у шестилетней девочки биографию предков до третьего колена считал, если не до четвёртого. Но то был редчайший случай. Да и проверить была возможность… А тут… Женщина? Ребёнок?..
В.: И поэтому ты запаниковал? Ты во вторую нашу встречу так паниковал, так паниковал, что мне даже неудобно было.
П.: А как было не паниковать? Мы тогда на перерыв вышли, спустились на первый этаж и только на диван сели, так ты сразу свой странный рисунок, пейзаж с берёзкой, достала и показываешь, вот, дескать, таким ты меня представляешь. И тут тебя понесло! Дескать, какое тебе в оккультизме прочат большое будущее, про экстрасенсорику, про всякие твои сверхспособности, и прочее, и прочее…
В.: Да! А ты…
П.: Да! А теперь представь состояние человека, христианина, более того, христианского писателя, несколько лет проработавшего переводчиком богословской литературы, а потому богослова, который, если и не разбирается в оккультизме, то, во всяком случае, на этот счёт не заблуждается — и вдруг женщина, которая ему по-настоящему понравилась, сообщает, что она оккультистка… Да ещё большое будущее… Да ещё и с чего начинает — с рисунка!..