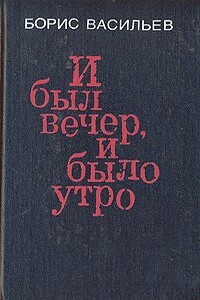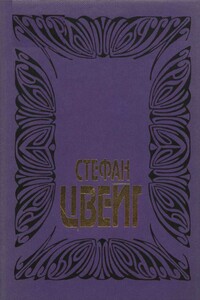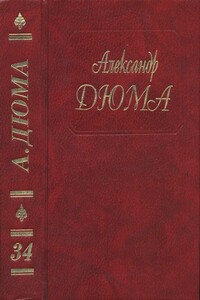…Драгоценный потомок мой! Сын ли, внук ли — мне неведомо, да и не суть это. Чтобы ты не бегал к бабушкам за разъяснениями, я сам растолкую, в чем тут загвоздка, если в ваше время моды решительно переменились. А суть в том, что в наши времена мушка на левой щечке обозначала «горячность страсти», меж бровей — «соединение симпатий», посреди лба — «люблю безумно, твоя, твоя, твоя!», а вот на кончике носа — «отказ». Полный афронт. И милые дамы наших дней несли свои мушиные знаки прямо к «предмету», демонстрировали их и тут же ловко смахивали. И далее следовали как ни в чем не бывало.
Ну что на это сказать? Напился я от полноты оскорбленных чувств и, зыбко помнится, орал в каком-то трактире, что-де все одно моею будешь. А на следующий же день, еще не проспавшись толком, разлетаюсь к графинчикам, вхожу в особняк, румяный с мороза и довольный собой. «Поручик Олексин. Доложи немедля». А мне: «Принимать не приказано». «Как?!. Ты глаза протри, я же сосед любезный. Бригадира, графского приятеля, сын единственный!..» А мне: «Приказано сказать, что их сиятельств навсегда нет дома».
Полный афронт. Поворотил я молча и как бы в некоем трансе румяным дураком. Вскочил в седло и помчал, помчал…
(Сбоку — приписка: Смотреть следует в начало и далее — подряд. Так уж получилось…)
Что мщению моему помогло? Карты. Граф был азартен до трясучки, а мне, когда надо, всегда не та карта шла, и поэтому за зеленым сукном он меня терпел. И я его терпел, поскольку твердо решил не оставаться в дураках. И заранее сунул несколько ассигнаций прислуге. Толстой, жадной, а главное — глухой, как тетерев, когда обстоятельства глухоты требовали.
— Аннет, как перед Богом — ты навещала меня, когда я в горячке свалился?
Она улыбнулась… Ах, как она улыбнулась, господа, как улыбнулась! Засветилось все вдруг окрест. Даже, по-моему, лес зимний и тот листвою зашумел… Да, улыбнулась таким именно манером, на одну пуговку расстегнула на груди пеньюар цвета зари майской, потянула за цепочку и показала мне мой же, ей подаренный золотой, к которому уж и ушко припаяно было…
О милых дамах — либо хорошо, либо ничего. Было краткое: «Ах!..», и дева сомлела. Потом, правда, разомлела, но я вовремя дал тягу.
Ну и для чего я это записал? Да того ради хвастовства, что в дураках нас, Олексиных, пытаться оставить — себе дороже, господа. Себе дороже!..
(Сбоку приписано другими чернилами: Судьбы человеков записаны в Книге Судеб. И моя — не исключение.)
Думал, что дал тягу, но тяга-то как раз и осталась. И какая!.. Еле сутки выдержал, зубами скрипел, о дверь лбом бился, хотел уж просить, чтоб заперли меня. Ночь не спал, а с рассветом помчался в одном шелковом бешмете. И Лулу несла меня, как в атаку…
Признаться вам, что был на вершине блаженства? Ах, господа, господа, насколько бедным и пошлым оказывается язык наш, когда так хочется быть искренним безмерно! Сказать — «я люблю»? Мало, мало и еще раз мало! Я потерял и нашел себя одновременно, а это ли не состояние полного счастья? Это ли не познание, что в объекте любви вашей вы неожиданно обнаруживаете всех безмерно любимых вами женщин сразу? Вы открываете в ней и хрустальный родник страсти вашей, и нежность сестры, и великую заботу матери. Троица ваших самых главных, самых затаенных и вечных женских идеалов вдруг обнаруживается вами в одной, одной-единственной, для вас созданной Богом отраде. Вы нашли! Вы готовы орать на весь мир, что идеал — тот, смутный, совершенный идеал женщины, заложенный с детства маменькой, сестрами, няней, — найден вами, ответил вам любовью, нежностью, пронзительным пониманием и заботой и глядит на вас счастливейшими, полными слез глазами, потому что вы тоже вдруг оказываетесь идеалом. Ее идеалом. Со всеми вашими лошадьми, пистолетами Лепажа, охотой с борзыми, бокалами вина, трубками, картами и храпом по ночам…
— Fidelis et fortis отныне девиз твой, мой рыцарь. Fidelis et fortis — на всю нашу жизнь.
— Верный и смелый. На всю жизнь запомнил.
…Верный и смелый, fidelis et fortis. И вы запомните, потомки мои. На всю жизнь запомните!