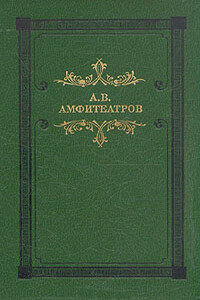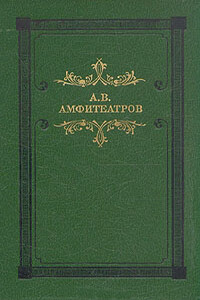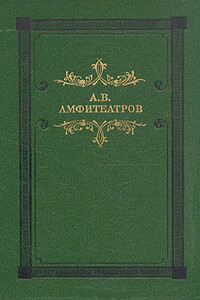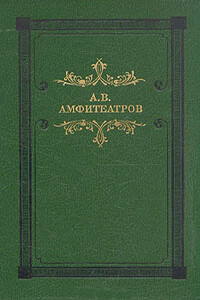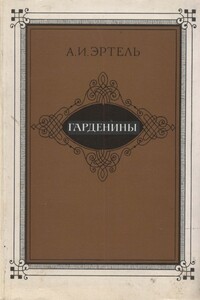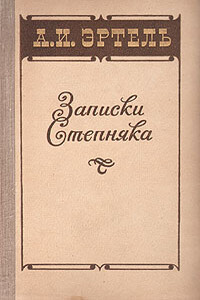— Хорошо, оставим Алексея Васильевича, — нахмурясь сказала Наташа, — но растолкуйте мне, пожалуйста, что за микробы такие?
— Воля так же заражается, как и физический организм, вот и все. Иначе нельзя объяснить. Авторитет Петра Великого, дела Ивана Грозного, крестовые походы — ничего нельзя объяснить. Дико, нелепо, странно… точно пляска святого Витта. А с этим объяснением очень понятно.
— Отчего же не фантастика охватила людей в шестидесятых годах, а горячий порыв к правде, к справедливости, к устранению общежития?
Григорий Петрович пожал плечами.
— Ну, об этом долго говорить, — сказал он. — Вы ведь спросили, что делать? Я отвечаю — то, что нравится. Вы сказали, нравится вам вот что, но люди плохи. Я отвечаю: людей возможно заразить. Но для того, чтобы заразить, нужно, во-первых: идти напролом, во-вторых, — угадать то самое важное, что стоит на очереди. Вы напролом не шли, это — раз; самое важное не угадали, это — два. И вот почему никого не заразили… и не знаете, что делать. Я полагаю, это оттого, что вам не нравилось ваше дело. И совершенно правы: оно не может нравиться.
— Почему?
— Мелко.
— Н-ну, не знаю. Что же крупно, по-вашему?
— Вы увлеклись строительством на песке. Надо не строить, — надо до материка расчистить сначала место.
— И потом?
— Потом — не знаю. Не дождемся. Без нас выстроят что нужно.
— Хорошо, допустим, — хотя я совсем, совсем не согласна. Но как же расчищать? Что вы разумеете под этим? Опять фантастические авантюры?
— Я разумею под этим — жить, как мне хочется, говорить и делать прямо, без обиняков и компромиссов.
— Моя мысль, моя всегдашняя мысль, — вполголоса пробормотал Петр Евсеич. «И моя», — подумала Наташа, но тем не менее иронически спросила:
— И это значит угадать самое важное?
В глазах Бучнева засветилось острое выражение.
— Да, — ответил он металлически зазвучавшим голосом, — да, самое важное теперь не юстиция, не земство, не школа, не переселенческий вопрос, а то, что все изолгались, все трясутся от выдуманных страхов. Надо не лгать и не бояться. Надо этим заражать людей.
— Ах, создатель мой, — это же отрицательные добродетели!
— Вот как? А вы проверьте, есть ли они у вас?
Наташа покраснела от негодования, — и от того, что в грубых словах Бучнева ей почудилось справедливое и тонкое наблюдение.
— Это личности, — сказала она.
Он опять изобразил некоторое подобие улыбки, — глаза его приняли обыкновенное выражение, — и методически стал набивать трубочку.
— Я, однако, желала бы узнать подробности вашей программы, — волнуясь, спросила Наташа. — Ну, например, вы. Что вы делаете? Как осуществляете ваше хотение и ваше бесстрашие?
— Это личности.
— Нет, без шуток?
— Без шуток я не хочу с вами говорить. Вы — обидчивы.
— Ну, так я имею право подумать, что вы просто из тех говорунов, что «по свету рыщут, дела себе исполинского ищут!» — не владея собой, воскликнула Наташа.
— А так как «наследия отцов» у меня не имеется, то вот сорву с Петра Евсеича тысчонку, другую и снова в путь, — сказал доктор и неожиданно засмеялся своим до странности простодушным смехом. Петр Евсеич звонко вторил ему, ухватившись даже за живот, из особого чувства подобострастия… Наташа невольно улыбнулась, молча допила свою чашку и подумала, что теперь удобное время переговорить с доктором о болезни отца.
— Пойдемте, я вам покажу сад, — сказала она, надевая шляпу.
— Эх, охота вам на зелень смотреть! — жалобно пропел Петр Евсеич, но не получив ответа, нахлобучил: с необыкновенно широкими полями панаму, лениво взял в руки трость, еще ленивее сошел в цветник, и неподвижно уселся на самом припеке.
Наташе показалось, что и доктор последовал за нею неохотно. Вообще она как-то вдруг заметила, что в его лице не было вчерашней холодной определенности, что он чем-то расстроен, что его спокойствие если не притворно, так обманчиво. И нечто вроде раскаяния за свою беспричинную враждебность к этому человеку зашевелилось в ее душе.
Петр Евсеич действительно чувствовал какое-то недоброжелательство к «зелени» и, переходя от одной охоты к другой, никогда не увлекался садоводством. Вот почему в Апраксине сад был очень запущен. Аллеи заросли травой, плодовые деревья одичали, небольшой парк превратился в непролазную чащу, перепутанную подгнившим сухоподстоем, молодыми побегами, крапивой, буйно разросшейся ежевикой. Только близ дома были распланированы цветочные клумбы, сверкал зеркальный шар, водруженный на месте прежних солнечных часов, краснели утрамбованные дорожки, посыпанные мелкопросеянным толченым кирпичом. По мнению Наташи, это было самое скучное место в Апраксине, особенно в знойные солнечные дни, когда и пестрые клумбы с ослепительным шаром, и кроваво-красные дорожки, и холеная зелень газонов казались какими-то бутафорскими принадлежностями. Но Петр Евсеич, выходя в сад, не делал шагу дальше этого цветника, очень был доволен, что в нем нет тени и гладко ходить. Шар и дешевые цветочки были затеи приближенной Петра Евсеича, горничной Поликсены. Старик язвительно ухмылялся на ее вкусы, но не противоречил.