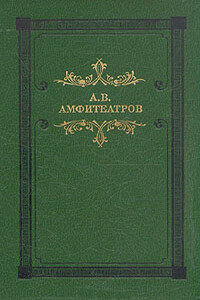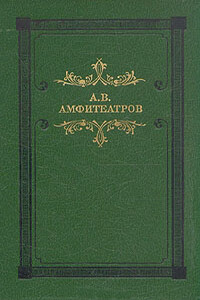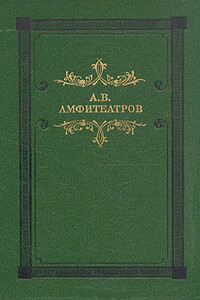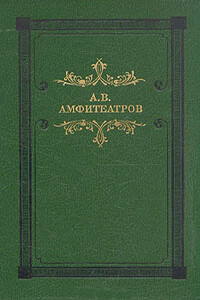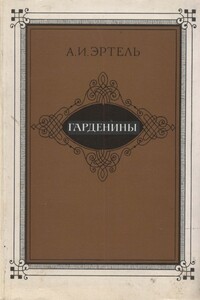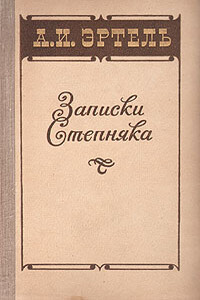Тутолмин стих и во всю дорогу обращался к доктору с глубокой почтительностью. Его как бы подавляла эта непосильная преданность своему делу, обнаруженная флегматичным и сереньким человеком.
— Но что же делает земство? — любопытствовал Илья Петрович. — Отчего мало докторов, почему нет медикаментов?
— Денег нету-с. Оттого и докторов нет, что денег нету. Народ мы дорогой, жалованье нам немаленькое, а обкладать-то уж нечего: земли обложены, леса обложены, купчина защищен нормой, а доколе норма оставляет его на произвол судеб, и купчина обложен…
— Но бюджет, кажется, очень велик.
— Это вы, батенька, справедливо сказали: бюджет велик. Но вы знаете, скрлько одних канцелярий на шее этого аппетитного бюджета? Изрядно, голубь вы мой. — И доктор начал откладывать пальцы: — Управская — раз, съезд мировых судей — два, крестьянского присутствия — три, воинского присутствия — четыре, училищного совета — пять…
— Но ведь это можно бы изменить, сократить…
— Эге, вы вона куда! Вы зачем же, любезнейший, в теорию-то улепетываете? Вы не улепетывайте, а держитесь на почве. Почва же такова: обязательных расходов сорок два процента — понимаете ли: о-бя-затель-ных! — администрация и канцелярии («Приидите и володейте нами», — в скобках пошутил он) двадцать два процента; ремонт зданий, страховка и расширение оных — шесть процентов…
И Тутолмин ясно увидел, что если «не улепетнуть в теорию», то и земство не виновато.
— Но тогда уж возвысить бюджет приходится, — нерешительно сказал он.
— Тэ, тэ, тэ!.. Это, другими словами, налоги возвысить? Превосходно-с. В высшей даже степени превосходно и просто. У меня и то есть один благоприятель, — великолепно он так называемый вопрос народного образования разрешает: собрать, говорит, по рублю с души единовременно — и гуляй душа!.. Батюшка вы мой, в том-то и штука, что повышай не повышай — толку не будет. Только счетоводство одно будет… Недоимка одна сугубая…
— Но в таком случае как же вы хотите обойтись без теории, — заволновался Илья Петрович, — вспомните «народоправства» Костомарова… в Новегороде, например…
— А, это другое дело! — с протодушным лукавством произнес доктор. — Поговорить мы можем. Поговорить мы всегда с особым удовольствием… Ну что, что там у Костомарова?.. Я, признаться вам, батенька, не токмо так называемых «книг светских», «Врача» уже третий месяц в глаза не вижу. А что касается ученых каких-нибудь сочинений, то перед богом вам клянусь — не виновен с самой академии.
И точно, «теоретический» разговор, который затеял было Илья Петрович, погас чрезвычайно быстро.
— Вы лучше расскажите, какова барышня у вас в Волхонке? — вымолвил доктор, преодолевая зевоту. — Говорят, чистейший маньифик. Вот бы, канальство, посвататься!.. Я, батенька, выискиваю-таки бабенку. Скучно, знаете. Дела — гибель, а приедешь домой, и позабавиться нечем. То ли дело мальчуганчика бы эдакого завесть или девчурку…
Тутолмина покоробило: он не ожидал таких признаний от добросовестного земского работника. Отсутствие «принципов» в этом работнике смертельно оскорбило его. «Затирает! — подумал он с горечью и невольно сравнил Гиппократа с Захаром Иванычем. — И буржуя моего затрет, — мысленно продолжал он, — и выищет он себе манерную самку, и наплодит с ней краснощеких ребятишек… Эх, болото, болото!» Но когда показалась Волхонка и засинело волхонское озеро, мысли Ильи Петровича изменили грустное свое настроение. Он подумал о Варе: «Эта не самка! — чуть не произнес он вслух, внезапно охваченный чувством какого-то горделивого довольства, — мы не изобразим с ней мещанского счастья…»
Однако же в деревне Тутолмину снова пришлось изменить свое мнение о Гиппократе. Этот «пошловатый» человек (как об нем было уже подумал Илья Петрович) с такой внимательностью осматривал больных, так безбоязненно обращался среди вони и грязи, до того ясно и быстро устанавливал дружественные отношения с крестьянами, что Тутолмин опять почувствовал к нему глубокое уважение. Это уважение еще усилилось, когда Гиппократ наотрез отказался заехать в усадьбу и настойчиво заспешил в ближнюю деревню, где свирепствовал дифтерит. Илья Петрович только в недоумении посмотрел на него: он никак не мог помирить такое самоотвержение с отсутствием «принципов». «Может, скрывается?» — предполагал он, задумчиво шагая по направлению к усадьбе (экипаж он уступил доктору), но тут же вспоминал бесхитростный облик доктора и снова повергался в недоумение. «Э, ну его к черту! — наконец воскликнул он, подходя уже к самому флигелю: — Явно разбойник, буржую моему подобен…» И любовное отношение к доктору, смешанное с какою-то раздражительной досадой, окончательно установилось в нем.