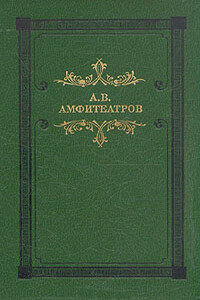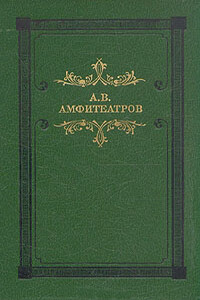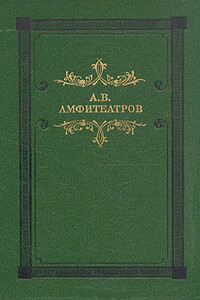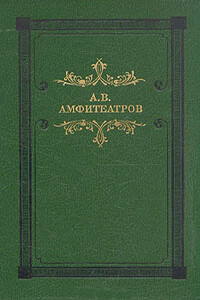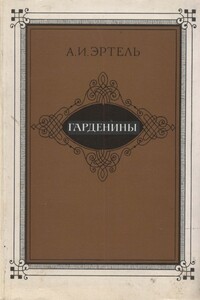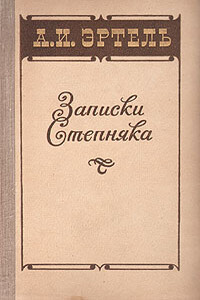— Ах, не греми ты этими противными своими словами! — нетерпеливо воскликнул граф. — Не слушай его, дядя: он ведь точно ребенок — не уснет без гремушки, без своих противных валют и дисконтов. Идите лучше сюда.
— А вы чем руководитесь в своих действиях, — смеясь и несколько книжно спросила Варя у Лукавина, когда он подошел и сел около нее, — грезами или действительностью?
— Во сне — грезами, — ответил он, усмехаясь.
— А наяву?
— Гроссбухом, — ответил за него Облепищев.
— На это у нас есть конторщики, — возразил Лукавин.
— А чем же? — полюбопытствовала Варя.
— Жизнью, Варвара Алексеевна, фактами, как пишут в книжках.
— И чувствуете себя довольным?
— Как будто не видишь, — смешался граф.
— Ничего-с, — ответил Лукавин и характерно тряхнул волосами.
— Нет, зачем ты с Тедески торгуешься? — капризно пристал к нему Облепищев.
Петр Лукьяныч отшучивался.
— Отец научил.
— Но ведь тому простительно, тот «Лукьян Трифоныч».
Алексей Борисович заступился за Лукавина.
— Но для чего же необдуманно тратить деньги, мой милый, — сказал он.
— О, дядя! — патетически воскликнул Облепищев и умолк. Вообще в его отношениях к Лукавину замечалась какая-то двойственность: наряду с обращением дружеским и шутливым вдруг аляповато и резко выступала раздражительная насмешливость. Варя это заметила и в недоумении посмотрела на «приятелей». Приводил ее в недоумение и Алексеи Борисович. В тоне его ясно звучали какие-то чересчур благосклонные нотки, когда он говорил с Лукавиным. И даже обычная ядовитость как будто покинула его, — это Варо не понравилось.
Вечером все маленькое общество собралось у рояля. Облепищев выглядел теперь уже не таким нервным и говорил мало. Черный бархатный костюм какого-то невиданного покроя привлекательно оттенял матовую белизну его лица. Он перебирал ноты, высоким ярусом наваленные у его ног, и категорически отмечал их недостатки. То было «шаблонно», это «тривиально», это «переполнено треском»…
— Да где ты такие вкусы развила, моя прекрасная? — воскликнул наконец он, обращаясь к Варе.
— Ты знаешь, я ведь плохо понимаю музыку, — ответила она краснея.
— А вот эту вещичку ты поешь, Pierre, — заметил Облепищев, не обращая внимания на ответ Вари и развертывая на пюпитре ноты. — Немолодая вещь, но не дурна. Будешь? — вопросительно сказал он, обращаясь к Лукавину.
— Пожалуйста! — попросила Варя. Лукавин вежливо поклонился. Варя отошла от рояли и уселась на открытое окно. Она ждала. В окно видно было небо глубокое и звездное. Из сада доносился слабый шорох деревьев и беспрестанно замирающий соловьиный посвист. Озеро в неясном и загадочном мерцании уходило вдаль, незаметно сливаясь с темнотой. Варя посмотрела в комнату. В молочном свете ламп мраморный профиль Облепищева выделялся особенно тонко и благородно; Лукавин стоял мужественно и прямо, как Антиной, и от его красивого лица веяло какой-то самоуверенной силой; Алексей Борисович задумчиво утопал в кресле, изящный и эффектный; полный и цветущий Захар Иваныч, скрестив руки на брюшке, с любопытством поглядывал на Лукавина… Вдруг руки графа быстро пронеслись по клавишам, и звуки рояли шаловливой и спутанной вереницей затолпились в высокой комнате. Но вслед за ними протянулась нота знойная и печальная и оборвала их звонкое лепетанье и медлительно угасла. «Что, моя нежная, что, моя милая», — запел Лукавин,-
Что ты глядишь на осенние тученьки?..
Сна ль тебе нет, что лежишь ты, унылая,
Грустно под щечки сложа свои рученьки…
И Варя почувствовала, как его голос, звучный и мягкий как бархат, с тихой отрадой льется ей в душу. «Э, как давно не слыхала я музыки», — произнесла она сквозь беспомощную улыбку, и слезы у ней закипели. «Я зашепчу твою злую кручинушку», — пел Лукавин,-
Сяду у ног у твоих я на постелюшку,
Песню спою про лучину-лучинушку,
Сказку смешную скажу про Емелюшку…
Захар Иваныч покрутил головою и усмехнулся. Варя в досаде отметила эту усмешку. «Ему, кроме своей интенсивности, на свете ничего не мило», — подумала она. Но тотчас же забыла и о существовании Захара Иваныча и снова замерла в чутком внимании. И вкрадчивые звуки ласково и нежно ластились к ней и приникали к ее сердцу осторожной струйкой, и наводили на нее какую-то сладкую и пленительную истому. «Стану я гладить рукой эту голову», — продолжал Петр Лукьяныч, ниспуская голос до каких-то изнемогающих ноток,-