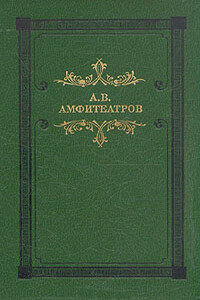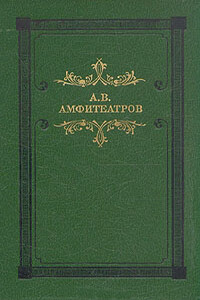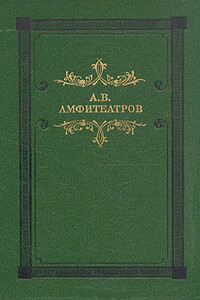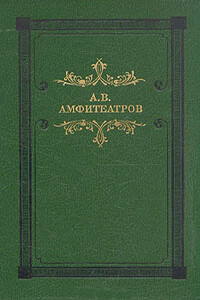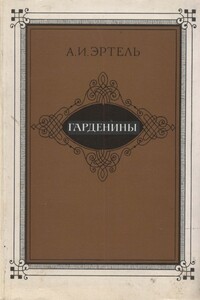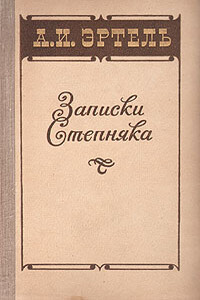Карьера Струкова. Две пары. Жадный мужик. Волхонская барышня - страница 170
— Папа!
— Ну что еще… Много получил писем. Из Петербурга все больше точки и остервенелые доносы на скуку. Впрочем, Фонтанка воняет по-прежнему. В заграничных — жалуются на курсы и на кухню. Представь себе, подлецы немцы — до того онаглели, даже на желудки наши покушаются! Вот пишет Савельев из Карлсбада: «…Когда приходит время обеда — меня начинает тошнить: так все скверно готовят и баснословно дерут; например, за бифстекс (1/3 нашего) 1 fl. 60 kr., что составит по курсу 1 р. 36 к., и тот вареный на бульоне, чтобы не жарить его в масле, из экономии; — к нему картофель жаренный в сале, по 5 крейцеров за штуку; яйцо — от 6 до 8 крейцеров за штуку; булочка в два глотка — два крейцера: по крейцеру за глоток»… и так далее. Каково!.. Скоро, кажется, до того дойдем — Европа нас в лакейскую не будет допускать!.. Ну что еще… Ну, разумеется, по курортам различные Балалайкины шныряют, или как там у Щедрина?.. Ах, да!.. Вот… — и он с живостью взял листочек с графской коронкой. — Ты помнишь своего кузена, Мишу Облепищева? Графа Облепищева?
— А, — быстро отозвалась Варя, — ну, конечно, помню: он такой милый.
— Так вот он пишет. Просит позволить приехать ему погостить в Волхонку с товарищем, с каким-то Лукавиным. Не помню, — в недоумении промолвил Алексей Борисович, — какой это Лукавин. Пишет: «Представляет из себя возникающую лозу, упитанную миллионами, но за всем тем — мил и благороден».
— Лукавин… Знакомая фамилия…
— Ах, ты думаешь, что это… известный? Может быть. Но в таком случае это его сын. Посмотрим сей отпрыск лаптя, оправленного в золото…
— Но… ты думаешь его пригласить?
— Отчего же? Дом велик. А если ты затрудняешься ролью хозяйки и вообще забыла некоторые наши «барские» привычки и «приобыкла» к иным… так я тебе «Хороший тон» от господина Гоппе выпишу.
Варя невольно рассмеялась.
— Приглашай, приглашай, — сказала она.
— А ты совершенно забросила музыку, — уже серьезно заметил Волхонский, — хотя бы «бычка» изучала под руководством господина… как бишь его?.. Ведь ты помнишь Мишеля — он без музыки жить не может.
— Надо рояль настроить, папа.
Алексей Борисович сейчас же распорядился послать в город за настройщиком.
Варя прошла к себе и, не снимая шляпы, села у окна. Сладкий запах сирени доходил до нее. На сад ложились тени. В кустах бузины щебетала малиновка.
Варя думала о своем кузене. «Каков-то он теперь?» — думала она и с удовольствием вспомнила время своего сближения с ним. Ей было тогда тринадцать лет. А он был такой тоненький и хрупкий и грациозный в своем пажеском мундире. Одно время он был влюблен в нее. Но это прошло быстро и незаметно. Истинной его любовью пользовалась только одна музыка. За роялью он забывал все на свете… Но, однако же, никогда она не забудет одной прогулки. Ей и теперь мерещится иногда зимняя лунная ночь с крепким морозом, необыкновенно высокое синее небо, простертое над бесконечными снегами, мелкое сверканье инея на сугробах, протяжный визг полозьев, заунывный звон колокольчика, медленно замирающий в сумрачной дали… Вместе с Мишей и бабушкой (той самой, которая и до сих пор отстаивает аракчеевские порядки, а Алексея Борисовича иначе не называет как фармазоном) они устроили этот пикник в одну из рождественских ночей. Варя и теперь помнит, как близко сидел около нее румяный Мишель, и как горячо соприкасались их ноги, и как острая струя морозного воздуха веяла ей в лицо, а на душе было свежо и грустно. Позади голубым блеском светились колокольни губернского города и смутно замирал городской шум…
Вдруг она очнулась и мгновенно вспомнила сцену на поляне. Она живо вообразила себе и небо, и даль, и песню жаворонка, и лепет берез, пронизанных заходящим солнцем, и румяные облака… Но сердце ее билось ровно, и образ Тутолмина в каком-то тумане возникал перед нею. И странное чувство какой-то неудовлетворенности робко шевельнулось в ней.
IX
— Ну, как твои «одры»? — спросил однажды Захара Иваныча Тутолмин.
— Какие одры?
— Ну эти, как их там… плуга-то твои?
Захар Иваныч усмехнулся.
— Да идут себе, — сказал он не без гордости.