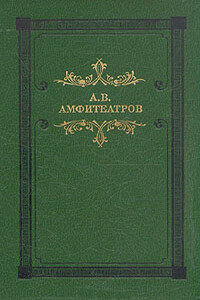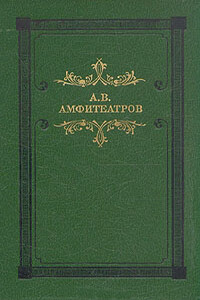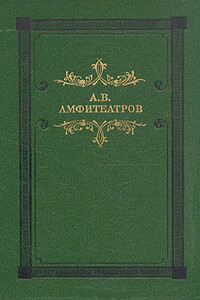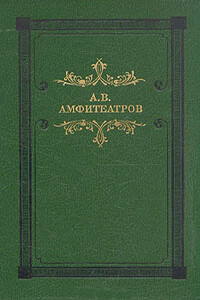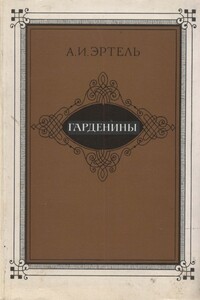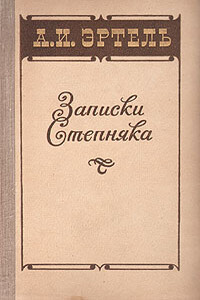— Да ты бы к нему и лез, — рассердился Тутолмин. — Что ты ко мне-то? Захотел ярма и лезь сам. Я-то тут при чем?
Мокей снова и уже с большей настоятельностью почесал в затылке.
— Серчает он на меня, — произнес он.
— Кто серчает?
— Захар Иваныч.
— За что?
— А за что! Спроси! — в благородном негодовании заторопился Мокей. — Народы-то у нас оченно даже приятные… У нас мастера ямы-то рыть под доброго человека… У нас, ежели не слопать кого, так праздник не в праздник!..
— Стало быть, наговоры на тебя?
— Наговоры, — кротко сказал Мокей.
Илья Петрович помолчал.
— Или перемогся бы? — наконец вымолвил он.
Мокей тряхнул волосами.
— Никак невозможно, — сказал он решительно.
— Ну к своему бы брату, мужику, нанялся. Там хоть равенство отношений. («Эку глупость я отмочил!» — подумал Тутолмин в скобках.)
— Как можно к мужику! — горячо возразил Мокей. — Мужик на работе замучает. Мужик прямо заездит тебя на работе! Нет, уж вы сделайте милость.
— Хорошо, я скажу, — печально согласился Тутолмин.
Мокей рассыпался в благодарностях.
— А что насчет песен, это уж будьте покойны, — говорил он. — Я тебе не токмо песни — чего хочешь предоставлю. Мы за этим не постоим! — И вдруг игриво добавил: — Будешь в деревню ходить — девки у нас важные.
Илья Петрович хотел было рассердиться, но вовремя опомнился и сказал:
— Нет, уж насчет девок ты оставь, Мокей, — я женатый.
— О? Не уважаешь? Ну, как хочешь. Насчет девок не хочешь — песни буду представлять. Я, брат, ходок на эти дела. Ты у кого ни спроси про Мокея, всякий тебе скажет, например. Я не то, что другие, — измигульничать не стану.
Вечером, когда приехал Захар Иваныч, Тутолмин сказал ему о желании Мокея. Захар Иваныч поморщился.
— Больно уж он неподходящ! — сказал он.
— Чем же? — спросил Илья Петрович.
— Да как тебе сказать: очень уж он привередлив. Он ведь жил у меня раза три. Надо тебе сказать, что за пищей рабочих я сам слежу, и уж что другое, а пища у меня сносная…
— Да он говорил мне об этом.
— Ну вот видишь. Говорить-то он говорил, а когда жил — у меня недели не проходило без скандала: то то ему не хорошо, то другое. То масло горчит, то в крупе гадки много, то говядина не жирна. Просто наказание! И представь себе: сейчас же собьет всех, сговорит, и скопом являются расчет просить. Помучил он меня. Ты не поверишь — я в лето три кухарки сменил, и все из-за его претензий. Вот он какой, этот Мокей.
— Да отчего же он такой требовательный?
— А бог уж его знает. Живут они плохо и дома, я уверен, мяса в глаза не видят, Я тебе говорю: окаменелость какая-то. Вот уходил он от меня: один раз ушел, — чирий на спине вскочил, — не смех ли! Другой раз — рансомовский трехлемешник ударил его рычагом по сапогу… А третий — смешно даже сказать: ночевал он в картофельной яме и вдруг говорит: «Я, говорит, не буду здесь ночевать». — «Отчего же ты не будешь?» — «Леших боюсь…» Уговаривал его, убеждал, — ничего не помогло. Так и ушёл! Вот он какой, этот Мокей.
Илья Петрович засмеялся.
— Да, действительно неудобный продукт для капиталистических манипуляций, — сказал он. — Но ты все-таки его прими. Как хочешь, а ведь в принципе-то все-таки отлично, что у Мокея этакое органическое нерасположение к ярму.
— Поди ты! — с неудовольствием произнес Захар Иваныч, но все-таки не забыл сказать явившемуся приказчику, чтобы он взял Мокея.
После чая Захар Иваныч отправился в дом. Тутолмин, разумеется, отказался сопровождать его. Он весь вечер прокопался за материалами, собранными в записной книжке. Много сведений он разнес оттуда по различным отделам. Большинство досталось общине; затем добрый кусок зацепили обычное право и раскол; этнография удовольствовалась меньшим, и наконец самую маленькую частичку получила статистика.
Захар Иваныч возвратился с новостью: Варвара Алексеевна просила Илью Петровича поехать с ней в шарабане на испытание парового плуга. Старику нездоровилось, и он оставался беседовать с Куглером. «Вот еще не было печали! — как будто с видом неудовольствия воскликнул Тутолмин, отрываясь от своих материалов. — Я и править-то не умею». Но в душе он был доволен этим предложением. И когда лег спать, несколько раз подумал о Варе. Нервы его были слегка возбуждены. Сердце беспокойно трепетало. Ночью он часто просыпался и злился на безмятежное сопение Захара Иваныча. Мерный лязг часового маятника тоже раздражал его.