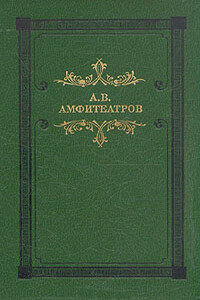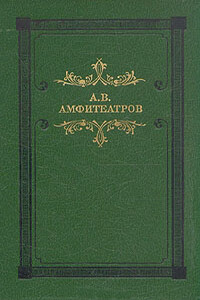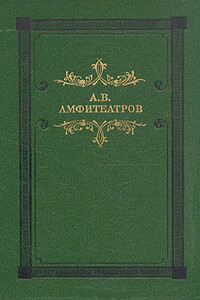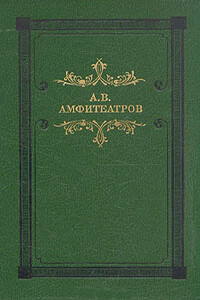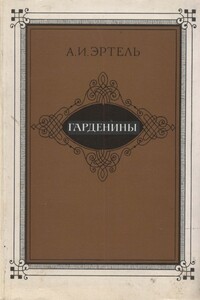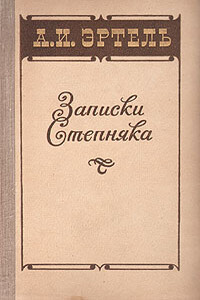Скитаясь таким образом, они заходили в какой-нибудь dimingroom или luncheonbar, обедали с необыкновенным аппетитом или наскоро съедали кусок мяса стоя у прилавка. И сколько было переговорено во время этих бесцельных странствий и длинных обедов с глазу на глаз. Сколько было сделано планов, какие широкие намечены перспективы… Жизнь великого города точно подзадоривала из своим серьезным темпом, и Наташа соглашалась теперь, что это «подзадоривание» совсем не то, какое чувствуешь в Париже.
— Пойми ты, дорогая моя, — с увлечением говорил Струков, — в Париже даже камни, вроде знаменитой стены в Pиre — Lachese, вопиют о кровавых традициях, о страстной нетерпимости партий, о безграничных претензиях государственности, о могуществе произвола, фразы, декламации, абстрактных идей, о торопливых достижениях свободы и столь же торопливых отречениях от нее… Я не спорю, временами этот способ развития страшно красив, — куда медлительной Англии…
— О да, страшно красив! — восклицала Наташа.
— Пусть так; зато именно в Англии что достигается, то прочно, и в конце концов без особых катаклизмов утверждено почти совсем человеческое общежитие… во всяком случае, человечнее французского.
— Миленький мой, а колониальная политика? А Ирландия? А кое-какие делишки в Индии? А пауперы — этот ужасный Уайтчапель, где мы вчера так долго бродили?
Но Струков красноречиво напоминал ей, что такие грехи везде есть и даже в превосходной степени, и нет нигде столь искренней и дружной работы для осуществления самой бескорыстной справедливости. Во Франции, говорил он, все возлагается на правительство, в Германии — на дисциплину партий и ферейнов, здесь — главным образом на свободную личность, на ее права, инициативу, волю. И указывал на возрастающую деятельность английской интеллигенции в сфере разных общественных вопросов, на возрастающее уважение к чужим верованиям, правам, интересам, на эту законность в крови, на спокойное чувство личного достоинства, одинаковое у лорда и простого рабочего, на поступательный ход нравов, идей, отношений, делающий то, что Англия Диккенса и Теккерея быстро становится анахронизмом. Наташа слушала, любовалась убежденным лицом Алексея Васильевича и серьезным звуком его голоса, — и почти всегда соглашалась, ее столько от его слов, сколько от этого выражения убежденности в его голосе и лице. Впрочем, иногда и спорила… Раз в каком-то предместье им встретились на улице каменные свежеокрашенные столбы, на которых когда-то навешивались ворота, загораживающие улицу; в столбах и теперь виднелись прочные крюки для петель. Прохожий объяснил им, что, начиная отсюда, городок стоит на земле его лордства герцога Аргайля и что этот герцог, если захочет, может во всякое время навесить ворота и запереть улицу. Наташа ужасно возмутилась такой прерогативой его лордства, и вот тут-то вышел у ней с Струковым горячий спор. Алексей Васильевич настаивал, что и это хорошо; что в этом оказывается глубокое чувство законности — благодетельный дух компромисса, при котором развитие гораздо прочнее, нежели при насильственном истреблении каких бы то ни было столбов.
— Разрушать легче, чем видоизменять, — убеждал он рассерженную Аргайлем Наташу, — зато разрушенное легче и восстанавливается, и иногда в худшей форме. Аргайль, конечно, никогда не запрет улицу: его столбы — лишь символы, увядшие листья старого законодательства. А вспомни вандомскую колонну… и еще многое, что было разрушено и расцвело снова.
— Но ты скажешь, что и розги хороши, если они в законе? Что и это варварство нужно видоизменять, а не истребить сразу и с корнем?
Струков возмущался таким толкованием, говорил, что против «варварства» нужно бороться решительно, сметать его, по возможности, до основания, но что борьба-то пусть будет целесообразна, — и в конце концов и на этот раз почти убедил Наташу… опять-таки не столько аргументами, сколько выражением голоса и лица.
Но обращаясь к далекой родине, они были всегда единодушны. Дружно мечтали, как будут работать там вот на такой закономерный лад, как в не столь отдаленном будущем гоголевская и щедринская Россия тоже сделается анахронизмом — и без всяких «революций», а постепенным развитием сознания, законности, довольства, бескровными жертвами, культурными силами, осуществлением скромных задач. Правда, в этих дружных мечтах сквозили различные точки зрения: было заметно, что Наташа строила планы без всяких особых соображений, а просто потому, что любила деревню и простых людей, и еще любила того человека, с которым собиралась «работать». Струков же больше всего любил «человека», то есть ее, Наташу, а деревенскую деятельность, как и прежние ученые свои планы, определял «трезвыми» доказательствами, основанными, как ему казалось, на строгом, почти лабораторном опыте. И иногда случалось, что Струков замечал эту разницу в точках зрения. Еще чаще замечала такую разницу Наташа, и, кроме того, замечала непоследовательность Алексея Васильевича, — то, что ему не удается перекинуть мостик от Маркса к русской деревенской деятельности… Но, боже, как это было смешно и незначительно в сравнении с чувством, волновавшим их сердца, и как быстро проходило от одного пожатия руки, от восхищенного взгляда, от пламенного поцелуя где-нибудь в полумраке случайно опустевшего купе или в закрытом кебе.