— Уж не хотите ли вы сказать, — обидчиво произнес Зотов, — что это я приучил его к водке?
— Нет, я себя и вас виню совсем не в этом…
Услышав нерешительный стук в дверь, Бабалы крикнул:
— Войдите!
Дверь медленно открылась, и в кабинет, конфузясь, шагнул… Володя Гончаров. Вид у него был виноватый, глаза опущены.
Иван Петрович крякнул:
— Легок на помине!
А Бабалы принялся терпеливо увещевать парня:
— Володя, мы же с тобой, кажется, договорились: ты отдохнешь немного, потом потолкуем.
Володя вздохнул:
— Душа горит, товарищ начальник!
— Не понимаю…
— Мочи нет больше терпеть. А денег — ни шиша.
— Да ему опохмелиться хочется, Бабалы Артыкович, — насмешливо пояснил Зотов.
— Верно, Володя?
— Верно.
— А честное слово?
— В последний раз, товарищ начальник!.. У нас говорят: резко бросать нельзя. Если я сей же момент не хлебну этой отравы, так мне одна дорога: на кладбище. В последний раз!..
Бабалы с горечью сказал:
— Ты, значит, пришел забрать свою бутылку?
— В последний раз!.. Помираю, товарищ начальник!
— Мда… — Бабалы потер ладонью щеку, подумал о чем-то, достал спрятанную четвертинку. — На, бери. Только учти: вместе с водкой ты проглотишь и свое честное слово. А им ведь дорожить надо…
У Володи дрожали руки, он только бессмысленно повторял:
— Ей-богу… в последний раз…
— Ладно. Попробую тебе все-таки поверить. Тоже — в последний раз. Но уговор: вали прямым ходом в общежитие, нигде не задерживайся. Выпей там свою водку — и спать! На работу сегодня можешь не выходить. Выспись как следует. После зайдешь ко мне, подговорим на трезвую голову.
Володя, сжимая трясущимися руками бутылку, попятился к двери, на лице его были написаны и стыд, и благодарность.
Как только он исчез, Зотов хлопнул себя ладонью по бедру:
— Ах, ханурик!.. И это его вы собираетесь воспитывать, Бабалы Артыкович? И по-прежнему считаете нас виноватыми, что он спился с круга?.. Нет уж, увольте. Гончаров не маленький. Сам во всем виноват.
— А также те, кто затянул его в этот омут, кто пьет вместе с ним. Наша же вина в том, что мы проглядели парня. Ведь он же совсем молодой. И не буянит — только пьет. Он не безнадежен, Иван Петрович. И сейчас особенно нуждается в опоре — я бы сказал, что он стоит на хрупком мостике, который вот-вот рухнет, и надо протянуть ему руку, чтобы помочь добраться до берега и встать на твердую почву.
— Захочет ли он еще принять руку помощи?
— А почему бы нет? Его ведь мучает собственная слабость, даже его клятвы — пока пустые, но искренние — о чем-то говорят. Он сознает, что забрел на кривую дорогу — просто не может еще ничего с собой поделать. Вот тут-то к месту наша поддержка. Не сомневаюсь, все вместе мы вылечим его от затянувшейся болезни, и он еще принесет стройке немало пользы.
— Дай-то бог…
— Я в этом уверен. Во всяком случае, так или иначе, но мы должны использовать все средства, чтобы вызволить человека из беды. Наш ведь человек-то. Такой же, как и мы с вами. Только — больной…
— Чем же на первых порах вы собираетесь его лечить?
— Попробую доверием и уважением. А там посмотрим. Да, Иван Петрович, вы ведь ко мне с каким-то делом?
— Надо бы съездить на семнадцатый участок.
— Что ж, поехали.
Когда Бабалы выходил из кабинета, у него было смутное ощущение, что он что-то забыл или о чем-то забыл. Он даже вернулся, пробежал взглядом по бумагам, лежащим на столе… Вроде все в порядке. А, этот Володя заморочил ему голову!
И только приехав на семнадцатый участок, Бабалы спохватился: ведь он так и не успел прочитать заветное письмо! Даже конверта не вскрыл — наверно, он лежит сейчас на его столе, под бумагами.
Ему почудилось, что он слышит укоризненный голос Аджап: «Ай, оглан, тебе, я гляжу, и не до меня совсем! Так заработался, что даже мое письмо тебя не заинтересовало. Обо мне уж и думать некогда, да?» — «Как это некогда? — мысленно возразил ей Бабалы. — Все время думаю! Разве я могу забыть о тебе хоть на минуту?» И тут же жестоко упрекнул себя: но ведь забыл же! Вот и письма с собой не захватил. Правда, Бабалы и тут, на участке, не смог бы его прочесть — закружился в водовороте срочных, сложных дел.
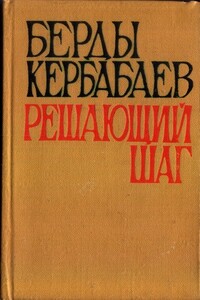

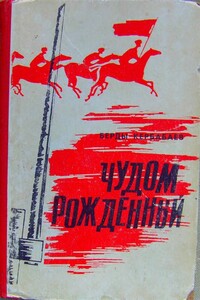
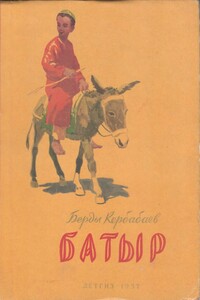


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
