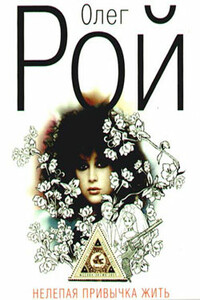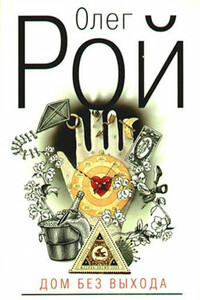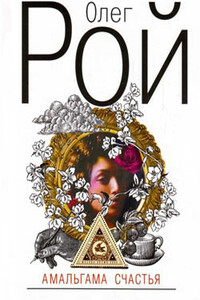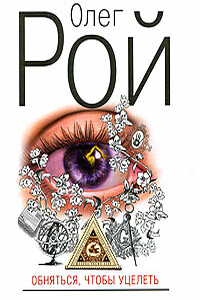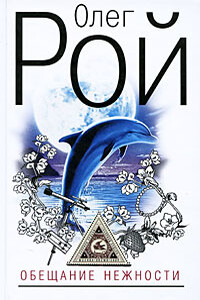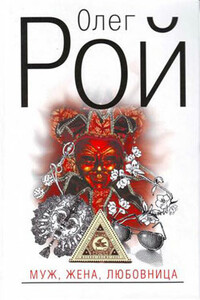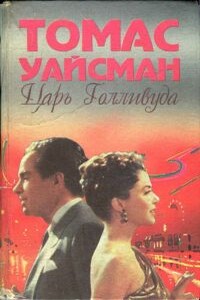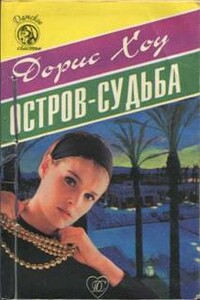Быть может, он ждал, что девушка сама придет к нему ночью, но этого не случилось, и, говоря откровенно, режиссер не слишком-то пожалел об ее отсутствии. Ему нужны были несколько спокойных, ничем не замутненных часов наедине с самим собой; он хотел отдохнуть перед работой на фестивале и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Алексей хорошо знал, что город-праздник, город-фейерверк, каким справедливо считается Венеция, на самом деле требует от тех, кто рассчитывает на ее признание, фанатичной преданности своему делу, работы до самозабвения и служения всерьез. Легкомысленным и романтично-ленивым этот город кажется лишь непосвященным. На самом же деле за парадными фасадами знаменитейшего карнавала, международного кинофестиваля и бесконечных круглогодичных праздников (среди них оказался и фестиваль экспериментальных театров, на который они приехали) скрывается жесткая требовательность, расчетливая практичность и совершенно несентиментальное отношение к миру. Будь венецианцы иными, они просто физически не смогли бы выжить на протяжении многих веков в этом городе на воде, городе-призраке, где борьба за существование всегда была более жестокой, нежели в иных, более благословенных местах. И вот такую-то публику – не говоря уже о строгом международном жюри – должен был покорить Соколовский своим «Зонтиком».
Проведя полночи в размышлениях о спектакле, он поднялся на другое утро если и не отдохнувшим полностью, то, во всяком случае, приведшим мысли в порядок, снова крепко стоящим на ногах и готовым, как он думал, к любому повороту событий. Он снова стал тем Соколовским, которым помнил и чувствовал себя всегда, – человеком, для которого не было ничего дороже его искусства и который, уж конечно, умел быть независимым от каприза женщины.
Спускаясь на завтрак, он еще издали услышал разочарованный басок Вани Зотова, который меньше других успел попутешествовать по заграницам и был совершенно не готов к той грустной реальности, которая носит в европейских странах наименование «континентальный завтрак».
– И это все? – громко и возмущенно вопрошал он. – Вот этот вот сухарь с заплесневелым сыром?!
Соколовский улыбнулся, присаживаясь к своим актерам за большой круглый стол, накрытый белоснежной, крахмально-жесткой, хрустящей скатертью, и успел вставить слово, покуда этого еще не сделала презрительно покривившаяся на Ванину неосведомленность Лена Ларина.
– Сыр, Ванечка, как раз очень приличный, из дорогих сортов, с плесенью; для номеров нашего уровня это достаточно дорогое обслуживание. А сухари, как ты непочтительно выразился, – это тосты, без них не обходится в Италии ни один завтрак.
– Нет, но это и все? – не унимался Иван, кипевший праведным негодованием. – Я вас спрашиваю, это завтрак для мужика?
– Еще есть кофе и соки, – с набитым ртом подал реплику Леонид Ларин. – А вон там, на столе, всякие-разные хлопья. Гадость, конечно, изрядная, но у этих жмотов так принято. Потом смотри: выдали еще по ломтику ветчины…
– И йогурты, – тщательно скрывая улыбку, заботливо добавила Лида. – Если хочешь, я отдам тебе свой.
Елена засмеялась, Володя Демичев молча пододвинул Ивану свою ветчину (он был давним и убежденным вегетарианцем), а Соколовский смотрел на этих ребят, и в груди у него было тепло от одного их присутствия, от того, что завтра вечером они будут сражаться вместе, и от того, что ему не страшно сейчас было зависеть от них – он доверял своей труппе и любил ее. Все другие заботы, тревоги минувших дней, все воспоминания о семье, о Москве – все, кроме театра и женщины, сидевшей сейчас неподалеку от него, начисто выпало у него из головы. Он смотрел на всех, кроме Лиды, нарочно, словно выдерживая экзамен и проверяя собственную силу воли, не позволяя себе задержаться взглядом на ее лице. И все-таки не выдержал, приник к ней глазами, как усталый путник приникает наконец к обетованной земле. Солнечные зайчики играли в ее волосах, она смотрела куда-то в сторону, мимо Соколовского, и лицо ее было свежим, умытым, без единой капли макияжа, и чистым, словно весеннее солнце, которое заливало в эти часы уютный зал маленького ресторанчика. А Алексею казалось, что это молчаливое солнце смывает с ее лица и с его души всю горечь, все недоразумения и все грехи прошлого, в которых они могли быть повинны друг перед другом, – смывает для того, чтобы они могли открыть новую, чистую страницу и сделать на ней свои первые записи.