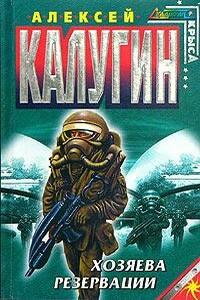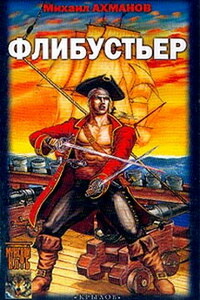– Прекрасно! У этой истории отличный конец, дорогой! Почему же тебя терзали горькие предчувствия?
– Потому что я слишком хорошо знал Дафни. Она не понимала, зачем существуют деньги и как ими пользоваться. Ей казалось, что главная цель, с которой их придумали умные люди, состоит в том, чтобы все остальные могли платить за удовольствия и развлечения. Пожалуй, это было верно в каком-то смысле, если считать всех остальных глупцами! Словом, я беспокоился из-за того, что Дафни промотает свой капитал и сядет на мель – а может, ее подтолкнут туда чьи-то заботливые руки. Я обратился к нашим банкирам, уговорив их не расторгать опекунский договор и выплачивать Дафни ренту, пока она не выйдет замуж за разумного и порядочного человека. Но критерии разумности и порядочности я описать не мог, поэтому кандидатура ее будущего мужа вызывала большие сомнения – им мог оказаться какой-нибудь мерзкий тип, ловец удачи, желающий попользоваться ее доходами. Но тут уж я ничего не мог поделать – как и мои банкиры! Я улетел с Кадата в расстроенных чувствах, терзаемый мрачными мыслями; я не сомневался – и не сомневаюсь сейчас, – что Дафни влипнет в какую-нибудь историю с самым печальным концом. Шандра пожала плечами:
– Наверно, такой опыт был бы для нее полезен. Но я думаю, остаться без гроша на тихом уютном Кадате – не самое страшное. Вот удрать от компании людоедов… или вычистить котлы в монастыре… или провести денек-другой в Радостном Покаянии, без пищи и питья… Такие вещи вырабатывают характер!
– Не думаю, чтоб Дафни это пошло на пользу, – людоеды сожрали бы ее, а в монастыре она бы повесилась. Не суди по себе, моя милая; трудности закаляют характер, если он есть, и губят, когда закалять нечего. Потому-то я и беспокоился о Дафни! ВеДь она, как и все мы, бессмертна, а в долгой жизни есть свой риск – рано или поздно сталкиваешься с ситуацией, когда необходимы мужество, мозги или хотя бы выдержка. Ничего такого у нее нет, и первая же передряга окажется для нее роковой. Ей будет мниться, что все к ней добры, что все вокруг – честнейшие милые люди, что денег у нее без счета, что она молода и прекрасна и никогда не умрет… Но все-таки ей суждено умереть. Я только надеюсь, что это случится не самым болезненным способом. Я замолчал. Шандра тоже молчала, опустив зеленые очи и разглаживая локон на виске. Потом губы ее шевельнулись:
– Это был самый неудачный из твоих браков, Грэм? Самый неприятный и тоскливый? Оставивший самые тяжкие воспоминания? Я невесело усмехнулся. – Если бы так, моя милая! Если бы так! Все познается в сравнении, и Дафни была еще не самым худшим вариантом.
Хоть эти воспоминания о прошлом не приносили мне радости, мы были счастливы на Малакандре. Мы занимались здесь всем тем, что невозможно делать на “Цирцее”, для чего необходим целый мир – с лесами, горами и океаном, с множеством людей, животных и птиц, с настоящими рассветами и закатами, с жарким солнцем и высоким небом. Мне хотелось, чтоб Шандра воочию испытала все, что видела прежде в голографическом изображении. Природные чудеса и красоты восхищали мою принцессу; не замечая времени, она могла любоваться радугой над хрустальным водопадом, прибоем у скалистых берегов или бескрайней оранжевой степью, что где-то вдали, за горизонтом, сливалась с песками пустыни. Хоть Малакандра не столь живописна, как Барсум, на этой жаркой планете есть свои очаровательные местечки – пещерный лабиринт у полюса, изрезанные фиордами берега, полноводные реки равнин, причудливые скалы, что приняли под действием солнца и ветров невероятные очертания. Все это – и многое другое, на что нам удалось взглянуть, – вызывало у Шандры восторженный трепет, и я с невольным беспокойством думал о том времени, когда ей придется покинуть Малакандру. Были и другие вещи. Она никогда не ходила на яхте под парусом, не плавала в пенных волнах прибоя, не скользила среди облаков на воздушном крыле, не опускалась в глубины вод, к подножиям рифов, в чащу зеленоватых водорослей, колеблемых робким плавным течением. Она не играла на скачках, не бродила по тихим уютным лавчонкам, заполненным всякой чепухой, не рылась на полках, отыскивая древние записи и книги, не посещала концертов и спортивных состязаний, не делала тысячу других вещей, приятных и возбуждающих. Я мог подарить ей все это, и я дарил, дарил без числа, упиваясь ее восторгами, восторгаясь ее восхищением, наслаждаясь ее детской радостью. Мрачные тени Арконата медленно, но неизбежно испарялись из глубин ее души, воспоминания о прошлом все реже и менее остро тревожили ее, она становилась спокойней, сильнее, уверенней; иногда она походила на ребенка, впервые познающего мир, иногда поражала меня зрелостью своих суждений. Теперь, оглянувшись назад, я думаю, что это было самое счастливое наше время – чуточку беззаботное и шальное, как теплый ветер, пролетавший над травяными равнинами Малакандры. Я не могу утверждать, что возродил в ней женственность – отнять ее у Шандры не удалось бы никому, и даже годы заключения в монастыре не вытравили в ней всепобеждающего женского начала. Однако жизнь ее до встречи со мной была тяжела и протекала в лишениях и унижениях, а подобные вещи не забываются сразу и вдруг. Лишь время вылечивает эти раны, всемогущее время, яркие впечатления, положительные эмоции и участие близкого человека. Я делал все, что мог, но я понимал, что прошлое не отпустит ее в ближайшие годы – быть может, в десятилетия. Были, были такие признаки – увы!.. Скажем, она никогда не пела, хоть в детстве отец пророчил ей карьеру великой певицы; я даже не знаю, каков ее голос – вероятно, сопрано или меццо-сопрано, но не контральто. Она не любила шить и заниматься кухонными делами, оставляя эти заботы роботам; она не терпела церковную музыку, хотя отличалась редкостной музыкальностью; вид свободного платья, напоминающего рясу, повергал ее в ужас; она с большей охотой ела овощи, фрукты и сладости, чем мясное. Очевидно, мясные блюда казались ей подозрительными – то была инстинктивная боязнь, наследие каннибальских времен, жуткая память о Мерфи.