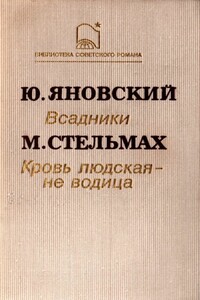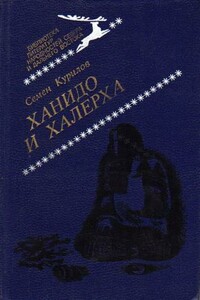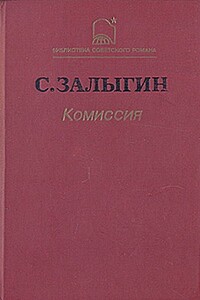Юрий шел рядом с ним как во сне. Он никак не мог поверить, что план его лопнул так просто, быстро, откровенно. Потом упрямая мысль подсказала решение: как бы там ни было, он все же поедет в Або и добьется своего без протекции Николая, а до этого вернется на Мюндгатан… «Дайте я вас приласкаю…» Будь что будет. Если Або — то и она. Решив так, он успокоился и повеселел.
Но когда подошли к пристани, все опять разом переменилось. Катер с «Генералиссимуса» уже ожидал, но тут к стенке лихо подошла моторка с «Рюрика», и из нее выскочил все тот же лейтенант Бошнаков с каким-то белобрысым худосочным мичманком. Он поздоровался с Юрием, как с хорошо знакомым, и сказал несколько любезных слов. Николай прошел за ними к стоявшему у пристани штабному автомобилю, перекинулся несколькими словами с Бошнаковым и подозвал Юрия.
— Знаешь, тебе просто везет, — улыбаясь, сказал он, — сейчас из Сандвикской гавани идет «Стройный» прямо в Питер. Аркадий Андреевич тебя захватит и любезно устроит на поход. Чего тебе тут делать? Того гляди, удерешь в Або, я твой характерец знаю, а мне за тебя отвечать и перед корпусным начальством и перед угасающим нашим дворянским родом… Ну, не злись, не злись! Пиши все ж таки, может, и я найду время на письмецо.
Он крепко обнял Юрия, поцеловал в обе щеки и приподнял, как бывало, над мостовой.
— Братство бывает разное, — сказал он негромко и серьезно. — Бывает кровное, бывает — душевное, бывает — военное. Нам с тобой повезло — все это у нас есть. А теперь появилось еще братство географическое: Або — Киль. Пусть это будет нашим паролем в жизни: Або — Киль! Когда-нибудь доберемся и туда и сюда… Ну, беги!
Он быстро прошел на катер, а Юрий, глотая слезы, забежал в дежурку, схватил бушлат и чемоданчик. Катер с «Генералиссимуса» уже отваливал. Николай стоял в кормовой каретке, статный, красивый, в ослепительно белом кителе, — единственный в мире родной человек — и медленно поводил рукой над фуражкой в знак прощания. Юрий сорвал свою и замахал ею, потом побежал к автомобилю.
Все остальное было в печальном смутном тумане. И знакомство с мичманком, который, оказывается, вез в Петербург какое-то письмо адмирала, и прибытие на «Стройный», и прощание с Бошнаковым, когда пришлось бормотать какие-то вежливые благодарности, и звонки аврала, выход из гавани, далекий силуэт «Генералиссимуса» на отступающем в серо-голубую даль рейде, и промчавшийся на пересечку курса «Охотник» под флагом командующего флотом, сигнал «захождение», и застывшая вдоль борта шеренга офицеров и матросов, где Юрию отвели место между теми и другими, и резкий поворот лево на борт у Грохары, сильно накренивший миноносец, и потом этот бешеный, сотрясающий весь корабль неистовый ход — все проходило вне времени. И только теперь, на кормовом мостике «Стройного», он мог хоть что-нибудь сообразить, сопоставить, привести в систему и соответствие — настолько неожиданны и насыщенны были события этих трех-четырех часов четверга семнадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года от рождества Христова и восемнадцатого — от его собственного рождения.
Неотрывно глядя в клубящуюся пену буруна за кормой, он пытался собрать мысли. Все сплеталось, перепутывалось, взаимно пронизывалось. Киль и Або, Мюндгатан и Друсмэ, зеленая полутьма ванны и Вагнер с его душувынимающей тоской о любви и подвиге, давняя горечь несправедливых неудач Николая и странные, видно, не сейчас родившиеся мысли его о будущем России и о проруби, где им суждено болтаться, и нависшая над головой война, и этот оперный заговор «августейшего друга», и жалкое их ливитинское безденежье, и недостаточная дворянская родовитость, негодная для общества Греве и Гейденов, российских дворян иностранных кровей, и эта сумасшедшая, слепая, самолюбивая, что-то кому-то доказывающая упрямая любовь к женщине, кружившей головы всем и каждому, и отчаянная попытка Николая выправить начало грозной войны, внезапный взлет военного рыцарства, по-запорожски чистого и высокого, и собственный его, Юрия, порыв в бой, и адмирал с пустыми от бешенства глазами, и опавшие в бессилии лепестки роз, и Сашенька с жарким влажным кольцом медлительного поцелуя, и дурацкий спектакль в магазине, и руки Николая, охватившие голову и портящие пробор, и эта тревога, тревога, тревога перед будущим, где зияет полная бесцветная пустота и совершенная неизвестность, что же ему делать, и вьющиеся в глубине миноги, поджидающие утопленников, и мещанская квартира Извековых, поджидающая его самого, — все это путалось в его сознании безнадежным клубком без конца и без начала, и он тупо и отчаянно смотрел вдаль — туда, где перевертывающаяся, винтящая кильватерная струя, так же путающая слои воды, как жизнь путает его мысли, исчезала и где торжественная, покойная гладь штилевого моря брала наконец власть…