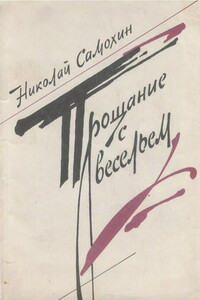— Что, по невестке соскучилась? Приказчиковой плетки у князя не пробовала? Я пять душ на барской работе схоронила, провались она! Поправляйсь, а если стыдно так сидеть, делай, на что руки поднимутся. А лучше походи, да опять ляг. Худущая ты, слабая.
Аграфена походила с бабкой по саду, спустилась к морю, оглядела все и вздохнула:
— А хорошо! Вот где жить бы!
Иван и Анисим хлопотали на винограднике. Аграфена вырвала вокруг мазанки побуревший бурьян, наносила с моря веселого песку и посыпала двор:
— Это я, бабушка, чтоб ты вспоминала меня.
— Ладно! Может, завтра мазанку побелим с тобою?
Побелили мазанку, побелили снаружи щелястый сарайчик. Дальше да больше, и зазвенел голос Аграфены у коровы, в саду, в мазанке, у ручья. Бабка светлела.
— Что же, старая, девка, выходит, сирота, а? — спросил ее Иван.
— Да я уж думаю…
— Чего думаешь?
— Сам знаешь, только бедные мы.
Иван хмыкнул и к Анисиму:
— Что ж девка даром горб будет гнуть у нас или как?
— Не знаю.
— А ты подумай.
— А чего мне думать.
Иван крякнул и за ужином заговорил с Аграфеной:
— Что ж, Граша, какие мы люди, сама видишь.
Кожа да рожа, мазанка, сад молодой да долгов за землю столько, что скоро одеться не во что будет. Не до жиру, а полюбилась ты нам. Давай порядимся на год за прожитое и на предбудущее, а?
— Я рада, только брат осерчает.
— Брат-не мать, брату написать можно. А? Во-о, давай, старая, угощай.
За кислым вином поговорили о деревне, о горечи сиротства, порядились, и осталась Аграфена в мазанке.
Волны день и ночь набегают на берег, и он каждую зорю чистый, новый: обломками дерева он говорит о буре, обрывками одежды-о несчастьи, морской травой-о глубинной волне, горами гальки-о размашистом шторме, мелкой галькой-о покое. Иван каждую зорю ходил на него и не с охотой возвращался домой. Ныли ноги, а глаза бежали вдаль. Вон там, казалось, лежит и ждет его невиданное.
Сад уже давал плоды, девять мешочков заполнились камешками, только в десятый иногда по неделям не попадало ни одного, но зато там были самые лучшие: золотые, розовые, бурые и огненные, лунные, голубые, синие и дымчатые, полосатые-в прямую полоску, в завитые полоски, в полоски широкие и не толще человечьего волоса, в полоски в два цвета и в несколько цветов, радужные, черные, светло-зеленые и прозрачные, светлые с зелеными искрами, с каплями крови, с облачками дыма, одетые в позолоту, в сизоту, с узорами, с рисунками.
Иван не думал, зачем ему эти камешки, — он радовался им и верил, что они любого человека обрадуют. Аграфена тоже приносила с моря камешки, говорила о них с Анисимом, с бабкой и прягала, чтоб через год унести их в деревню и там показать всем. Бабка ворчала:
— Дед вон тоже с ума сходит, а по мне камень и камень, вроде стекла.
При мысли, что Аграфена уйдет в деревню, бабке было не по себе. Но дули ветра, тысячами разбивались о берег волны, на каменной плите у мазанки завязывались вечерние разговоры, а потом пошли ночные разговоры, шопоты, поцелуи, и печаль минула мазанку.
На свадьбе Иван из девяти мешочков насыпал миску камешков и подарил их Аграфене:
— Вот, бери, семь лет собирал да выбирал. Лучшего мне нечего подарить тебе. Пускай у вас с Анисимом все будет хорошо, как эти каменья.
Бывшие в гостях люди смеялись потом-нашел, мол, что дарить! — но на свадьбе даже бабка пропустила сквозь пальцы радугу камней и порадовалась их крепости и чистоте.
Свадьба была весной, и молодые жить ушли в сарай.
Туда Аграфена унесла и миску с камнями. Днем сквозь щели на них прорывались лучи солнца, ночью их обливало лунной водой и блеском звезд, а с моря, из-за гор обдували ночные ветра.
Анисим стал светлей и поворотливей. Аграфена с утра до ночи звенела голосом и незаметно, тоже, кажется, с песней, родила Ивану и бабке правнука Маркушку.
За Маркушкой ухаживали все, как за редкостным виноградом, и радовались каждому его шагу, каждому слову, Когда он научился ходить, Иван вскидывал его в погожие зори на плечо, нес к морю, сажал на песке и собирал камешки и обломки дерева.
Маркушка играл галькой, катился к волнам, откатывался и гукал. Иван возвращался к нему, переносил его на новое место, ложился с ним рядом и говорил ему о море слова, каких никому не говорил: называл море голубыми слезами, скатившимися с чьих-то глаз в минуту радости, волны называл радужным дождем каменьев, теплоту их сравнивал с теплом материнской груди.