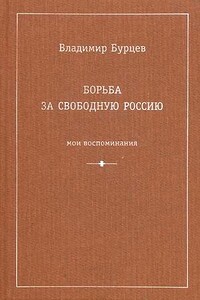Наглецы! Они еще старались меня уверить, что стража поставлена ко мне с момента снятия повязки. (На суде один из жандармов принужден был сознаться, что сторожа при мне стояли с первого дня). Еще и теперь пробегает дрожь омерзения, когда вспоминаешь, в какое болото мерзости и запустения пришлось окунуться! Слишком сладко и велико было упоение победы, если нашлось силы не задохнуться в нем, не сойти с ума, не умереть с горя...
В довершение своего рассказа я добавлю кое-что о взрыве и его последствиях для меня. По показанию свидетелей, бомба была брошена на расстоянии шагов 8-ми от кареты и попала почти в стекло, немного ближе к кучеру. Всю карету разнесло, несмотря на то, что карета была блиндирована (известна даже мастерская, из которой вышла карета).
Я был сбит с ног взрывом и на мгновенье потерял сознание. Мои поранения: рваные раны на двух пальцах ноги, рана осколком бомбы в правую сторону живота (мне говорили, если бы еще поглубже на толщину спички, была бы поранена брюшина), масса мелких ранок на лице и по всей левой ноге, прорыв барабанных перепонок в обоих ушах, - это все, что можно было учесть и записать в протокол под видом сухой и короткой фразы: "получил незначительные повреждения".
Я не добивался истины, для меня было безразлично, какими они считают мои поранения, опасными или неопасными. Вам, товарищи, и должен сказать, что было на самом деле. Я был весь разбит или избит - трудно судить, вероятно, и то и другое. Лицо вспухло так, что, по словам видевших меня в то время, страшно было смотреть, щеки отвисли мешком, глаза вышли из орбит, из подбородка образовался какой-то зоб. Руками я почти не владел-обе были опалены. Все тело с ног до головы было в бинтах и повязках. Под хлороформом извлекли из меня остатки бомбы и отрезали два пальца на ноге.
С ранами потом вышло осложнение: в ране на животе образовалось злокачественное нагноение, вся ступня левой ноги была разбита не то взрывом, не то пинками, и вскоре началось воспаление сухожильных влагалищ. Все это требовало мучительных перевязок, бесконечных разрезов. Поговаривали; что я могу не выжить, что, пожалуй, придется отрезать всю левую ступню. Несколько раз приезжал на консультацию лейб-хирург профессор Павлов. Как результат тяжелого падения на мостовую или опять-таки от шпионских пинков в спину - {197} травматический плеврит и, в довершение всего, сильные головные боли, адский шум в ушах...
Но, повторяю, все это пустяки сравнительно с тем, что пришлось пережить морально. Мне бы даже не хотелось напоминать эту старую историю моих болезней, о которых я давно позабыл, но раз вы требуете рассказать подробности о "деле", то я хочу обрисовать самое дело и все, что находится в связи с ним. Первые 21/2 месяца я лежал пластом, недвижимый, беспомощный, как ребенок; только в конце третьего месяца начал присаживаться, а на четвертый взялся уже за костыли.
На суд вышел еще совсем слабый, с тяжелой головой, не владея мыслями. Это сказалось на процессе... Мне было не до суда. Писать ли вам, товарищи, о самом суде? Думаю, не к чему, потому что об этом-то вы уже должны знать. Мне почти не дали говорить о самом деле, не дали выяснить мои мотивы и задачи партии. Мне вообще трудно было связать свои мысли, а тут еще постоянно обрывали. Измучили...
В конце концов, самому было противно, что принимал участие в комедии.
Ждал я, конечно, смерти и был уверен в ней, несмотря на уверения стражи в том, что этого не будет, потому что время "переменилось". О начале изменения курса я мог догадаться по тому, что нас не предали военному суду. Если бы вы знали, товарищи, каким счастьем веяло на меня от глухих слухов о происходящих на воле переменах! Это - величайшее для человека счастье еще заживо убедиться, что вера в дело не обманула, что "царство небесное" не мечта, оно грядет, близится! Я знаю: только пробуждению общества и народа я обязан жизнью...
Об арест Сикорского вы знаете из обвинительного акта. Но еще никому не известно, что пришлось пережить ему за время следствия. Трусевич и еще какой-то агент крутились возле него в продолжение четырех месяцев, пробуя все способы развращения, с которыми эта полиция обыкновенно подходит к рабочему, томя его чуть не ежедневно по 5-7 часов на допросах. Они передали ему мой бред и старались уверить его, что я выдаю, смеюсь над ним, ругая его "жидом", дураком, издеваясь над ним, называя его "слепым орудием", игрушкой, фонографом в руках хитрых интеллигентов, прятавшихся за его спиной. Они обещали ему деньги, прощение и спасение за границу за одно раскаяние. И в конце концов, злы они на него были больше, чем на меня...