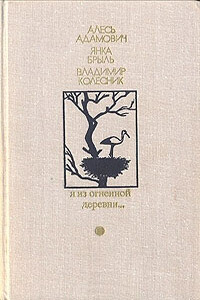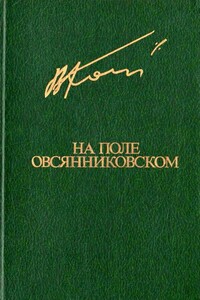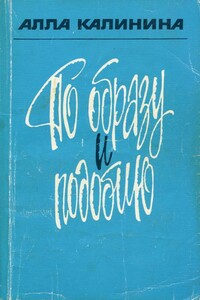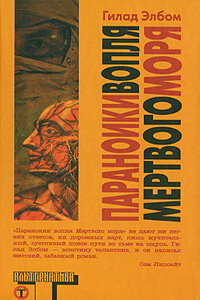Это был его проклятый замкнутый характер, он ни с кем не умел быть по-настоящему близок, его уважали, даже, может быть, любили, но доверительных, легких, приятельских отношений у него не было ни с кем, женатым людям был непонятен его образ жизни, для холостой молодежи он был слишком серьезен, слишком солиден. Да и степень его и его успехи, прибавляя ему научного веса, ставили его в лаборатории особняком. Если сказать по чести, раньше он даже гордился этим, но теперь… Каждый день он назначал себе поговорить с Михальцевым и каждый день откладывал, стыдился, ждал чего-то. Но однажды случай все-таки представился. Они вместе возвращались с ученого совета, было поздно, из лаборатории уже все разошлись, они были вдвоем. И Роман решился.
— Юрий Константинович, мне необходимо с вами поговорить, — сказал он ему в спину и замер, ожидая ответа.
Михальцев обернулся с язвительной улыбкой:
— Что вы говорите? О чем же это?
— Юрий Константинович! Мне очень неприятно, что наши отношения так изменились последнее время…
— Вот уж не думал, что ты, как барышня, любишь выяснять отношения!
— Я не люблю выяснять отношения. Но я оказался в нелепом положении неблагодарного, чуждого коллективу человека. Вы же знаете, что это не так. Я всегда помню, как много вы для меня сделали… Нет, я не так говорю…
— Скажи, Роман, а ты бы мучился так, если бы тебя оформили побыстрее? Только честно. Наверное, махнул бы хвостом и был таков? Просто ты волнуешься — а вдруг не выйдет, и здесь отношения уже испорчены. Правильно я говорю?
— Не знаю, — Роман смутился, — может быть, что-то такое и есть, но совсем в другом смысле. Я, конечно, тревожусь, что они так долго молчат, но ведь я не ищу никаких выгод и не готовлю отступного, мне просто очень тяжело чувствовать себя отверженным в лаборатории, с которой у меня так много связано…
— Ну что тебе сказать, Роман, ты же знаешь, мы все так относимся к своей работе и именно поэтому остаемся ей верны, хотя тоже догадываемся, что, наверное, существуют и другие места, может быть, и лучше оснащенные, и более перспективные. Но, видишь ли, все ухватить нельзя, погонишься за одним — упустишь другое.
— Значит, по-вашему, я совершил ошибку? Мне не надо было соглашаться?
— Я сказал, что надо иметь мужество терять.
— Юрий Константинович! Неужели вы это всерьез? Вы что — наказываете меня? За что? Неужели же нельзя отнестись к этому иначе, как к нормальному, обычному движению жизни?
— Все можно — теоретически. А практически — плевали мы на твое движение, ты уж меня извини. Двинулся — и иди, чего ты от нас хочешь? Сожалений? Их нет. Работал ты, теперь будет работать другой, подучим немного, будет не хуже тебя.
— И все-таки я чего-то не понимаю, — упрямо сказал Роман, — в чем я провинился перед вами? Что плохого сделал?
— Да ничего, абсолютно ничего. Что у тебя за дурацкая манера делить все на хорошее и плохое! Нет такого деления, что за детство! То, что хорошо тебе, — плохо другим, и наоборот. В одном только я с тобой согласен, скорей бы уж тебя оформляли… и — в добрый путь. Надоел мне твой слюнявый идеализм, и домой пора. Или для тебя это тоже не резон?
— Да, извините меня, извините.
Роман был ошарашен, растерян. Он думал, что произошло глупое недоразумение, которое легко будет рассеять, как только он объяснит чистоту своих намерений, но его намерения никого не интересовали, и сам он никого не интересовал. Михальцев его вообще не понимает, а он не понимает логики Михальцева, как будто они говорят на разных языках. Как странно, что, столько лет проработав в своей лаборатории, он только сейчас понял, как далек был от всех, как далек был от Михальцева, которого любил и уважал, с которым был, казалось, в таких добрых отношениях. Как же так получилось, что он не замечал раньше этих расхождений? Как вообще получалось, что все его победы и удачи в жизни оборачивались поражениями? Он искал и не находил ответа. Теперь его положение на работе стало еще тяжелее, еще двусмысленнее. Нужно было уходить если не в космос, то еще куда-нибудь, но он не мог уйти, он ждал этого проклятого ответа, и уже боялся, как сумеет прижиться на новом месте, и мучился своим непостижимым одиночеством. С кем он мог обсудить свои дела, с кем поспорить, у кого спросить совета? Такого человека не было на свете. Только Вета могла хотя бы отвлечь его от этих его утомительных мрачных мыслей, но у Веты опять была сессия, и ее нельзя было отвлекать.